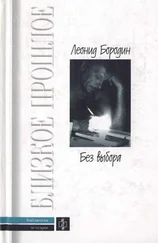Измена Хохлова и Головина — последняя капля… Остановилась жизнь, свернулась в клубок, воплем отчаяния застряла в горле, душит, но не удушает, повергает в сон разум и чувства, из коих лишь ненависть пробуждается раз от разу и горячит кровь, и тогда мутнеет в глазах и стираются очертания мира Божьего, во всем теле дрожь и маета, а на устах проклятья, проклятья… Тогда спешно призывает к себе сына-несмышленыша, ставит его под икону Божией Матери, на колени перед ним опускается, ручонки его белокожие хватает дрожащими руками своими, шепчет хрипло и невнятно:
— Матка Бозка! Глянь очами пресветлыми на дите! Тебе ль, милосердной, не понять муку мою! Не за себя молю, за него, безвинного. Отврати кару неправедную, образумь сердца, злой неправдой обуянные! Он, кровинушка моя, и за меня, грешницу, отмолит… и Тебе воздаст… Видишь же, не за себя, за его правду стою и стоять буду до часа смертного! Законный царь он земли русинской. Не дай же попрать закон! Тебе ль, страдалице, не знаема боль материнская…
Но тут вдруг горло вперехват, и нет слов более, хрип один, тогда отталкивает мальчонку от себя, плашмя на пол падает и, пугая сына, уже хныкающего и дрожащего, вопит голосом простолюдинки:
— Не слышишь! Не веришь!
И впрямь бестрепетен лик Божией Матери, грубым русином писанный, грязными русинскими устами опоганенный, ручищами холопскими захватанный, — нешто пробьешься… Но сразу же и покаяние страстное.
— Прости! Прости! Грешна! Не токмо ради сына — и ради себя, ведь и я же законная царица московская! Весь народ русинский, ныне закон поправший, он же и свидетель правоты моей. Не искал себе короны, бояре московские со всенародного одобрения возложили мне ее на голову. Нешто посмела о я самочинно? Ведь умоляли, колени и лбы об пол били, чтоб ехала в землю московскую…
Уже и не видит, что сын ее убежал, напуганный и заплаканный, а на устах — ни молитвы, ни покаяния, кривятся губы в проклятье зашептанном.
— Здрайдзи! Здрайдзи!
Перед глазами череда лиц, не лиц — теперь уж мерзких харь бояр московских, лукавцев, угодников, лизоблюдов, коим верила, однако ж, ради кого поступилась чистотой веры, в чьи руки жизнь и судьбу , свою отдала в наивности девичьей. И ведь не чуралась бородатой грубости ихней, какое там! Утомленная политесом Сигизмундова двора, очаровывалась прямотой слов и поступков, готова была жаловать и любить их как подданных престолу московскому, ее престолу, коль, вопреки обычаю, предложено было ей на равных делить царство с законным государем и супругом Дмитрием. Пятнадцать дней! Всего лишь пятнадцать дней была она во славе русской царицы, а после того восемь лет, почитай, день в день — восемь лет неслыханных мытарств по Московии… Да неужто зря? Да может ли такое быть, чтобы простая шляхтянка, вестимо, лишь Божьей волей избранная на великую долю, вдруг оказалась обойденной, оставленной Господней заботой, соринкой в зраке Божием. Не может того быть, коли имелся замысел Божий, чтоб кознями смертных и несправедливых разрушиться ему. Тогда в чем мудрость и сила Всевышнего? Ведь пустяк и тот не свершается мимо воли Его, а тут судьба царства — какая иная земная забота с тем сравниться может!
Неужто не Он, а другой — тот, искуситель и злодей, избрал ее, невинную, для своих черных дел?! Но Святая Церковь, благословившая заступление на стезю, разве ж могла ошибиться, обмануться? Ей ли, оку Господнему, не отличить Божьего замысла от сатанинского, и кому тогда вверяться душой и помыслом, на кого уповать?…
Нет! Нет! Не оставлена! Не забыта! Всего лишь более, чем когда-либо, неисповедим путь Господень. А то, что все зримое ныне против, что тьма обступила и не к чему воли приложить с пользой для дела, одно лишь может означать — полное доверие любви Господней. Ею, любовью, да чудом единственно разрешится загадка про судьбу Божьей избранницы Марины, урожденной Мнишек, супруги безвинно погубленного царя Дмитрия Рюрика. Главное сейчас — не вмешиваться. Другие — пусть. Не про них загадка. Отныне она — послушница и молчальница, и да свершится воля Отца Небесного!
Заруцкий чует неладное. Весь в суете глупой и пустой, и несподручно бегать ему от воеводских хором до митрополичьих покоев, но бегает, дивится на притихшую и — поди думает — затаившуюся Марину, голосом вдруг келеен стал: дескать, не занемогла ли, чай, — а потом за дверьми шепчется с Савицким, который теперь при Марине, что ни час, выпытывает, что-де приключилось с царицей, тиха не по нраву, к делам без интересу, людей до себя не допускает. Даже к Казановской подкатывается атаман, но та, как кобыла необъезженная, отбрыкивает его от себя и жалобу какую-нибудь тут же в рожу усатую: мол, рыбу в который раз несвежую доставляют, казачье пьяное под окнами буянит до полуночи, покою царице нет…
Читать дальше