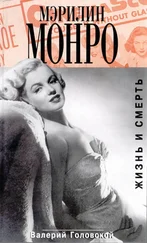Или, может быть, не они не понимают нас? – МЫ не можем понять ИХ?
– Сен-Жюст, а что думаешь ты? – кто сказал это? Кажется, опять Кутон. Но и другие смотрели на него, смотрели все, кроме Робеспьера, опустившего голову.
И Сен-Жюст, глядя на Робеспьера, наконец разжал губы, впервые за много часов нарушив свое молчание:
– Я пришел сюда не для того, чтобы действовать, – и, переведя глаза на смотревшего прямо на него Леба, добавил: – А для того, чтобы умереть…
И Робеспьер, который уже начал выводить свою подпись под воззванием, начинавшимся до ужаса привычным, а значит, уже и совсем затертым обращением, утратившим первоначальный смысл, – «Мужество, патриоты!», – и вывел две первые буквы неровным дергающимся почерком, услышав эти слова, словно обращенные к нему одному, вдруг замер, и его рука, в которой все еще дрожало смятое гусиное перо, застыло, занесенное над бумагой.
А Сен-Жюст, смотревший какое-то время на эту дрожащую руку, вдруг снова понемногу стал различать сквозь внезапно приумолкший говор членов Коммуны бешеный ритм барабанящих по фасаду Ратуши мириадов дождевых капель. Он вновь отключился от происходящего и слышал теперь только этот шелестящий успокаивающий шум низвергавшейся с неба воды. Но это длилось только миг. Потому что немедленно шум дождя, настойчиво вторгавшийся все эти часы в его сознание, заглушил другой шум: крики «Да здравствует Робеспьер!» (« Виват Робеспьер! ») внезапно ворвались в сгустившуюся атмосферу обреченности, царившую в Ратуше. И тут же эти восторженно-восхищенные крики сменились выстрелами, грохотом падающих стульев и ломающейся мебели, стуком бьющих в двери прикладов, бряцающим звоном сабель, беспорядочной беготней потерявших от страха голову людей, и, наконец, множественные отдельные крики, раздававшиеся отовсюду, вдруг слились в один общий пронзительный вопль, и этот вопль, словно вырвавшийся из глотки какого-то неведомого исполина, ростом, наверное, превышающим величественный Нотр-Дам (ныне – Храм Равенства), до основания потряс все здание парижского муниципалитета. Но и его покрыл тяжелый приближающийся топот большой массы людей, бегущих сомкнутым строем.
В общей сумятице заметавшихся вокруг него фигур Сен-Жюст медленно поднялся со своего места, шагнул назад ближе к окну и, скрестив руки на груди, одним взглядом окинул торжествующий вокруг него хаос. Он увидел, как Пейян, мэр Флерио-Леско и некоторые другие кинулись в соседнюю залу Ратуши и как, наоборот, из нее выбежали Анрио и еще несколько офицеров Национальной гвардии, и что Анрио при этом безостановочно кричал: «Нас предали! Все погибло! Все погибло!» – и по его сумасшедшим глазам Сен-Жюст понял, что генерал окончательно потерял рассудок. Но контроль над собой потерял не один Анрио – его не сохранил никто; а Коффиналь, крича в лицо своему бывшему начальнику, бывшему командующему Национальной гвардией Парижа и бывшему военному вождю восставшей Коммуны: «Это ты во всем виноват, ничтожество! Мизерабль!» – бешено тряс его за грудь, как грушу.
Все смешалось и завертелось в бешеной пляске теней на огромных великолепно отделанных стенах революционного муниципалитета. Ворвавшиеся в зал жандармы с дубинками, гвардейцы с саблями и секционеры в красных колпаках с пиками, как гончие, набросились на инсургентов – членов Коммуны и национальных гвардейцев, оставшихся верными «священному праву восстания», на людей, многие из которых были одеты точно в такую же форму, как и они. Закипела схватка, в которой члены Коммуны, большей частью безоружные, отбивались голыми руками, пустив в ход даже обломки стульев и сидений, которые они разбивали о головы хватавших их жандармов.
Время остановилось для Сен-Жюста. Он наблюдал происходящее как череду медленно сменявших друг друга картин. И хотя все эти картины он видел считанные мгновения, сами мгновения растягивались до бесконечности. Так он видел застывшего в дверях Леонара Бурдона, возглавлявшего ворвавшуюся в Ратушу колонну, с красным вспухшим от напряжения лицом, который направлял на него саблю, показывая его жандармам, так как Сен-Жюст был одним из первых, кого следовало арестовать. Одновременно он видел и упавшего на пол Кутона и то, как он заползал под стол, сжимая в руке кинжал. Он видел и застывшего мертвенной статуей Леба, у которого двигалась только одна рука, рука, которая подносила к белому неподвижному лицу пистолет. В это последнее мгновение Леба даже не посмотрел на него, не обернулся, чтобы еще раз увидеть своего великого друга, человека, всецело подавившего его волю и ставшего для него не только идеалом, но и злым гением. Впрочем, самоубийца не смотрел и на Робеспьера: видимо, перед меркнущим взором Филиппа Леба в ту самую секунду, когда он уже нажимал на курок, мелькнуло только лицо его жены и маленького сына, а уже в следующую секунду все исчезло для бывшего депутата от Па-де-Кале.
Читать дальше


![Дональд Гамильтон - Путешествие будет опасным [Смерть гражданина. Устранители. Путешествие будет опасным]](/books/86923/donald-gamilton-puteshestvie-budet-opasnym-smert-thumb.webp)





![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)