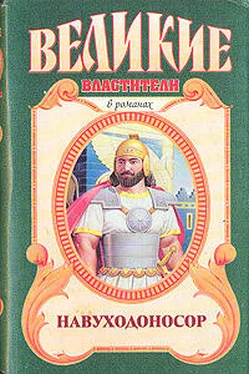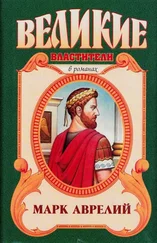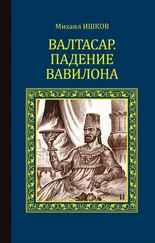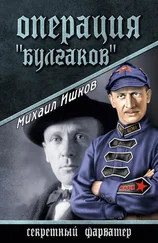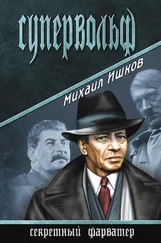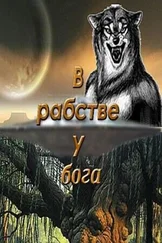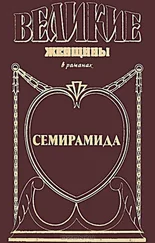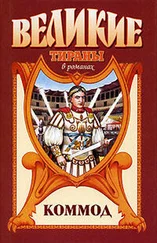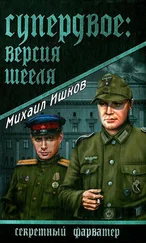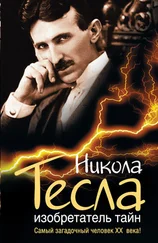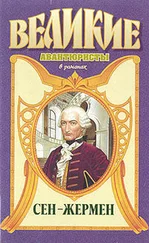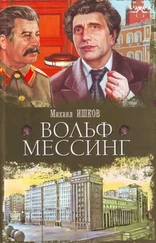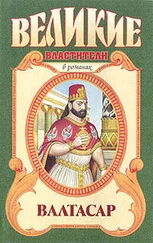Хоры на ступенях и стенах, окружавших дворец, грянули «Славься!..», и первые приглашенные вступили в зал. Здесь тоже хватало света и роскоши. Потолок был вознесен на неимоверную, не подвластную разуму высь, стены, слепившие глаза, были отделаны белым гипсом. Внутреннее пространство равномерно рассекалось чуть скошенными золотистыми световыми столбами солнечные лучи свободно проникали внутрь через округлые отверстия в крыше. Один из таких светоносных потоков падал на возвышение в гигантской, под самый потолок, неглубокой нише, где на троне восседал великий царь.
Глядя на подступающую толпу, Навуходоносор с любопытством прикинул которым по счету был этот торжественный выход? Четвертый десяток уже разменял… Что поделать, годы идут, печаль произрастает, как трава по весне. В прежние времена на хорах, устроенных в правой стороне зала, собирались женщины. Амтиду не пропускала случая полюбоваться на нарядную толпу. Теперь там угадывалась египетская царевна Нитокрис, навязанная ему фараоном Египта как залог вечной дружбы между Страной Реки и Двуречьем. Впрочем, если рассудить здраво, с той же целью отец вешал ему на шею и Амтиду. После гневного вопроса сына, на каком основании его, словно раба, держат в неведении, отец, не моргнув глазом, ответил.
— Так решили боги.
Наследник не сразу нашел, что ответить. Наконец заявил.
— Союз с Мидией не долговечен, и никакая свадьба не способна сохранить мир. Рано или поздно согласие рухнет!..
— Вот и пусть рухнет позже, чем раньше.
О чем здесь было говорить! Навуходоносор, вспомнив невозмутимое бородатое лицо отца, усмехнулся. Что в ту пору он, сопляк, мог противопоставить воле богов?
Кудурру выскочил из шатра, бросился к своей палатке, где возле коновязи отдыхал клин его телохранителей во главе с Набузарданом, гневно поправил чепрак, которым был накрыт его скакун, отвязал уздечку, перебросил ее через голову игреневого жеребца — все молча! — потом вскочил на него и, ударив пятками под бока, берегом Тигра помчался в степь.
Был полдень, месяц улулу, самая жара. Только возле реки, вдоль самой кромки воды, на быстром скаку, ощущалось достаточно прохлады. Клин всполошившихся телохранителей растянулся далеко позади. Нагнать царевича отборные, все больше его сверстники и друзья, не решались, но из виду Кудурру не теряли. Все воины личной охраны были в панцирях, шишаках, украшенных птичьими перьями, с короткими скифскими мечами-акинаками, которыми приходилось больше колоть, чем рубить, так как удержаться спине коня во время рубки было не просто. Горожанам искусство верховой езды вообще давалось с трудом. Свободно болтавшиеся ноги не давали точек опоры для уверенного замаха и мощного удара с оттяжкой. [48] Впервые железные стремена появились в Вост. Европе и Азии в 4–5 вв. нашей эры. Только при наличие твердой опоры всадник мог рубить с полного замаха. В 8 в. у кочевников Вост. Европы и Ср. Азии появилась сабля, изогнутость клинка которой заметно увеличивала действенность рубки (за счет резания). Одной из основных причин победоносного продвижения монголов по Евразии была связанная с этими новая военная тактика. Степняки рубились стоя в стременах и при наличии хорошей брони вполне выдерживали, а то и побеждали в схватках с восточно — и центральноевропейскими тяжеловооруженными всадниками. Во времена Навуходоносора конница еще представляла из себя вспомогательный род войск, предназначенный для разведки, обстрела из луков, преследования бегущего противника. Судя по сохранившимся изображениям, только в Ассирии, начиная с Саргона II и его преемниках (во внедрении новой тактики, применявшейся в сражениях того времени особенно велика роль Ашшурбанапала) и в нововавилонское время впервые начали по примеру скифов применять атаку крупными конными массами. Всадники в этом случае действовали длинными тяжелыми копьями, однако из-за технических и психологических причин полностью заменить боевые колесницы кавалерия в то время была не в состоянии. Древнегреческая и древнеримская конница все еще были бесстремянные и действовали в основном с помощью копья. Рубились очень редко, для этого требовалось большое искусство, каким, например, обладали покрытые броней и взявшие щиты конники-гетайры Александра Македонского.
Только редкие всадники те, кто был обучен скакать верхом, стоя на крупе лошади, — позволяли себе разить лезвием. Управление лошадью полагалось подлинным искусством. Если не считать северных кочевников — скифов и киммерийцев, а также союзников-мидян — конница, находившаяся в распоряжении царей Сирии и Ханаана, не говоря уже о стране Мусри, представляла из себя род вспомогательных войск. Всадник был вооружен луком и стрелами, и, чтобы вести стрельбу, к нему был прикреплен другой наездник, державший лошадь стрелка под уздцы и управлявший ею на поле боя. Из древних, цивилизованных народов только ассирийцы и родственные им жители Вавилонии вполне освоили управление лошадью с помощью уздечки и ног.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу