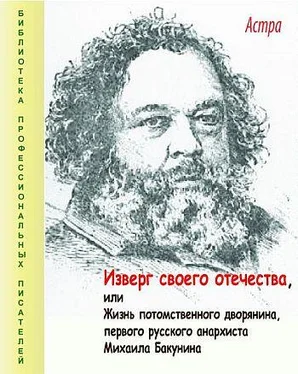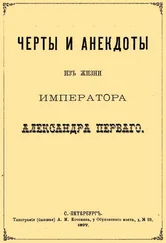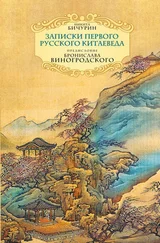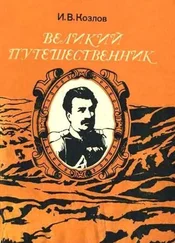Наконец, летом 1840 года она решилась.
Николай очень изменился. Он был бледен, голос его был тих и слаб, он покашливал. Сердце ее сжалось. Они всматривались друг в друга с бесконечной любовью и признались со всей откровенностью, что давно уже любят друг друга. «Высшее существо» его светилось в его глазах, в шутках, в письмах друзьям, в мечтах об огромном историческом и философском труде, за который он возьмется по приезде домой. С Ефремовым, бонной и маленьким Сашенькой они предприняли переезд во Флоренцию.
По пути туда две недели спустя после встречи с Варенькой, они остановились на ночь в одной из придорожных гостиниц. Станкевич и Ефремов заняли одну комнату, пожелали друг другу доброй ночи, намереваясь наутро продолжить путешествие. Когда же с рассветом друг стал будить его, то увидел, что Николай мертв. Он скончался тихо, в уголках губ его осталась легкая улыбка.
В Россию весть и кончине Станкевича пришла небыстро и отозвалась болью во всех, кто его знал. Друзья собрались, чтобы воздать в искреннем проникновении его светлой памяти, кто не смог, написал, передал свою печаль.
— Не только мы, друзья Станкевича, но два или три поколения студентов Московского Университета предчувствовали в нем какую-то новую силу, ждали, чтобы он высказался, — тихо говорили за столом.
— Необыкновенный человек, гениальная душа, божественная личность, гордость и надежда, призванный на великое дело…
— Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Подумайте о том, что был каждый из нас до встречи с ним?
Наконец, Белинский сказал в заключение общее слово.
— Нам посчастливилось. Все мы обязаны ему полнотой нашей душевной жизни, я — более всех. Если мне суждено совершить что-нибудь в жизни — то будет делом Станкевича, который вызвал меня из ничтожества. Впрочем, не со мной одним он это сделал. Кто знал близко Станкевича, для тех он не умер.
От произведений Николая Станкевича не осталось почти ничего. Стихотворений своих он не подписывал, печатался мало. Но нравственная чистота этого человека была столь очищающа, что оказала воздействие на всю русскую словесность, на развитие всего русского общества. Один человек!… Лет через двадцать младший брат его издал томик светлых писем Николая Станкевича. Уместно привести отклик Льва Толстого, тогда же прочитавшего их.
— Никого никогда я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел.
Между тем, Мишелю повезло. Чета Герценых пригрела его, в их доме он вновь ощутил почти родственную ласку и семейную отраду. Особливо жена его, святое любящее, истинно женственное существо. Под сильным впечатлением он, наконец-то, вывел для сестер новые, старые как мир, правила жизни и даже, не без посторонней помощи, признал прошлые ошибки.
— … Да, друзья, назначение женщины быть гением-хранителем семейной жизни есть великое святое назначение, не уступающее в величии, в бесконечности содержания никаким деятельностям мужского пола. Видишь, милая Саша, как во мне сильна привычка болтать и проповедовать ни к селу, ни к городу.
Александр Герцен, как и Грановский, увидел в Бакунине мощную мятущуюся личность, которая ищет поле деятельности. Он помог ему деньгами. Теперь дорога в Берлин была открыта.
Радостный, полный самых радужных надежд, стряхнувший с себя мутную тоску последних месяцев, Мишель как на крыльях примчался в Петербург. Вошел в редакцию «Отечественных записок» к Белинскому, растормошил, взбодрил, разговорил его. Для Виссариона много и не нужно было, чтобы вновь признать в Мишеле брата своей души. Перебивая друг друга, они пошли по Петербургу, размахивая руками, покупая у лотошников расстегаи, по старой привычке не стесняя себя разговорами, какими бы сложными и запретными они не казались. Старое доброе время простерло над ними свою умиротворяющую сень.
— Благословим прошедшее и оставим друг друга в покое, — решили друзья.
Дня через три, однако, все изменилось. Слишком много неуклюжих самодовольных ошибок, нелепостей, долгов и прямых обид ухитрился нагородить Бакунин дорогим людям, чтобы во всей красе не припомнились Белинскому его прежние подвиги, вроде «Васинька и Висяша вздумали меня учить»…
— Все тот же он, — Виссарион морщился, сидя с Боткиным за правкой его, Василия, рукописи по искусству. — Послушай, что он говорит: «Я в Москве был авторитетом… Стукотня, стукотня..».. Нынче познакомившись с Заикиным, берет у него деньги и раз, и два, пьет рейнвейн, гоняет извозчиков, ездит в театр. А тот, кроткий, уже и ненавидит его, а не может отказать.
Читать дальше