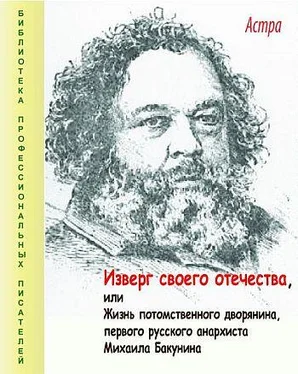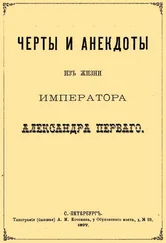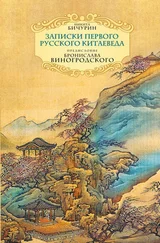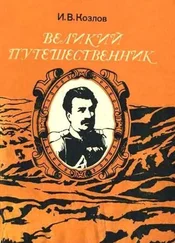Короткое время спустя за границу ушло нежное письмо Белинского.
«Приготовься услышать печальную весть, Николай: ее уже больше нет: она умерла, как умирают святые — спокойно и тихо. Катастрофы не было: тайна осталась для нее тайной. Болезнь убила ее. С ангельским терпением перенесла она свои страдания. Тяжело быть вестником таких новостей… но бог милостив — и сохранит тебя… Не умею выразить тебе моего ощущения. Странное дело, когда я распространялся о себе, на меня напал суеверный страх, все пугало меня. Теперь я возвратился к ней — и страх оставляет меня. Ах, Николай, зачем не могу я теперь быть подле тебя и вместе с тобою плакать? Я плакал, я много плакал по ней — но один. Будь тверд».
Станкевич тихо брел по берегу Тунского озера. Его окружали воспоминания, он был близок к ним, он будто очнулся. Образы, звуки лучшего мира неслись к нему. Сегодня он получил два письма. Одно — от нее самой, задержавшееся в пути, другое — от Белинского. Смерть ее наполнила его грустью, но не отчаянием.
— Я не снимаю вины с себя, — Николай покачал головой, — но слова «тайна осталась для нее тайной», сняли половину горя с души. Смерть оживила ее образ, сделавшийся уже страшным сном. Друг-Виссарион слишком много за меня боялся, его письмо собрало все, что могло утешить меня, и оно стало для меня спасением.
Больше года прошло со дня его отъезда из России. Он вел жизнь самую тихую, жил в разных странах Европы, в пансионах, отелях. Сейчас он снимал у хозяйки комнату с романтическим, по ее мнению, видом на поле. Юмор оберегал его совершенную духовную организацию. Кухарка и нянька служили ему усердно, но когда он просил принести ему суп, то непременно должен был прибавлять, чтобы подали и ложку.
Он уже постранствовал по Европе, испытал на себе, что человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на ветру. Что до него, то ему приятно было странствовать, потому что был уголок на свете, где он не чужой.
Здоровье его то прибавляло, то отступало. В разных местах лечили по-своему.
— Жалобы бесполезны, — со всею ясностью и мужеством понял он в свои молодые годы. — Хуже всего эти глухие ничтожные надежды. Они унижают достоинство.
Он встречался с Шеллингом, который и так уже составил часть его жизни; никакая мировая мысль не приходила в его голову иначе, как в связи с его системою, и собирался слушать его в университете Берлина. И у Гегеля Николай с радостью увидел несколько своих любимых мыслей. Отправился он было и на лекцию Фихте, но Фихте в тот раз не пришел, зато нынешней осенью его лекции станут для Николая новым откровением.
Так он надеялся.
… К осени в Берлине, действительно, собрались многие друзья. Неверов, Ефремов, Иван Тургенев, Грановский, целое землячество. Русское семейство Власовых, постоянно проживающее в Берлине, радушно принимало молодежь. Конечно же, Станкевич был душой этого кружка, невозможно было не любить его, не признавать его авторитета, которого он, казалось, и не замечал. Вдали от родины можно было свободно высказываться обо всем, и как быстро развивались и мужали молодые люди в этом ежедневном общении!
Как-то раз, засидевшись у Власовых до позднего вечера, они отправились заканчивать его к Тургеневу, жившему поблизости. Они все жили неподалеку, близ университета. Грановский что-то объяснял, успевая в этом не столько словами, сколько пальцами. Станкевич смеялся. Потом продолжил начатую прежде беседу.
— Мы забываем о том, что масса русского народа остается в крепостной зависимости, — говорил он. — Нет сомнений, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участие в управлении общими делами. Для этого требуется распространение в его среде умственного развития.
Они подошли к дому, где квартировал Иван и стали взбираться на четвертый этаж.
— Воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований, но болезнь похищает у меня душевную энергию. Смогу ли я что-то сделать для людей? Кто любит Россию, тот прежде всего должен желать распространения в ней образования.
Он задохнулся и принужден был остановиться, не дойдя до третьего этажа. Посмотрев на спутников, он сказал тихо.
— Дайте торжественное обещание, что вы все свои силы и всю деятельность посвятите этой высокой цели.
Друзья обнялись вокруг него. На четвертом этаже Станкевич закашлялся, прижал к губам платок. Когда он отнял его, на платке была кровь.
Читать дальше