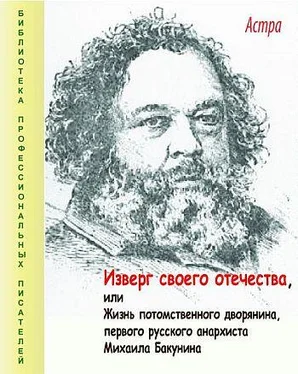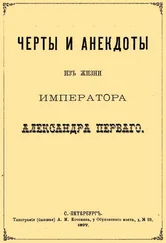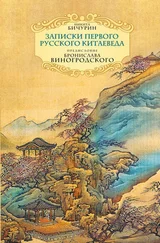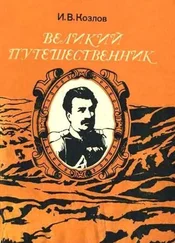«Философия занимается абсолютными, вечными сущностями, тем, что всегда было, есть и будет, навечно пребывает и не имеет истории. Субстанция (Абсолютная идея) есть нечто самодостаточное. Она проходит стадии чистого мышления, свободно отчуждает себя в форме „понятия“ в собственное инобытие, в природу, и, наконец, породив мыслящий дух в формах „субъективного“, „объективного“ и „абсолютного“ духа, на ступени абсолютного духа обретает полное и завершенное знание самой себя».
— Ослепительно! Но как сложно! Мозги кипят! — Мишель, стиснув зубы, переводил с немецкого слово за словом и тут же писал в конспект. Каким острым наслаждением отзывалась в нем каждая понятая мысль! — «Дух только как дух — пустое представление, он должен обладать реальностью, наличным бытием, должен быть для себя объективным и предметным»… Понятно. «Мировой дух в истории не делает ничего иного, как только познает сам себя в своей свободе, но объективация в исторических формах необходима, так как дух не может познать себя, не воплотившись в предмет познания, не объектировав себя в наличном бытии»…
Сколько нового!
С книгой подмышкой он помчался к Белинскому.
— Висяша, послушай, что он говорит… «История должна исходить из данных, из того, что было на самом деле». А Канту и Фихте, как мы помним, факты не нужны. И дальше: «В мире господствует разум. Но разумное в истории не лежит на поверхности, оно должно быть обнаружено в ней мыслью, а для этого надо заранее иметь критерии отделения разумного от неразумного, существенного от несущественного, а такое знание есть знание отвлеченное, умозрительное». Каков Гегель!?
— Хрустальное царство философских абстракций, — Виссарион обостренно ловил каждое слово, проникаясь новым знанием.
— Ничего, мы тоже не лыком шиты, — воодушевленно сказал Бакунин. — Смотри, как он напутствует молодых. «Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа — вот первое условие философии. Так как человек есть дух, то он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них; он не встретит на своем пути ничего столь неподатливого и столь упорного, что не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой вначале сущности вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания; она должна раскрыться пред ним, показать свои богатства и свои глубины, и дать ему наслаждаться ими». Каков Гегель?
— Велик, — согласился Verioso. — Такого еще никто не смел утверждать. Сам себя начинаешь возвышать после таких слов.
Теперь они вчитывались и спорили о каждой строчке, о каждом параграфе Гегеля. Знал бы недоверчивый, замкнутый, далекий от всего, что не есть его философия, Георг Фридрих, что в далекой заснеженной России русские юноши будут ночи напролет биться над его сочинениями, восторженно внимая каждому слову, как если бы это была истина в конечной инстанции! Он умер всего шесть лет назад, заразившись холерой от жены. Та, сердобольно посещая соседний госпиталь, переболела и выздоровела, а ее гениальному супругу не помогло ничего. Он ушел в зрелом расцвете лет, полный великих замыслов, умер в мрачной уверенности, что никто в целом свете не понял его!
Мишель был окрылен. Волею судеб, именно ему, Михаилу Бакунину, суждено было стать провозвестником и первым толкователем философской системы Гегеля в Москве, в России!
… И вдруг ужасная весть накрыла Россию черным крылом. Тридцатого января на дуэли убит великий русский поэт Александр Пушкин.
Кружок Станкевича, все друзья собрались у него в просторной квартире. Красов и Клюшников, скромные стихотворцы, известные больше среди своих друзей, молча всхлипывали и вытирали слезы, особенно нервный болезненный Иван Клюшников; Катков и Аксаков, низко опустив голову, молча мерили шагами комнаты. Помаргивая мокрыми глазами, Боткин держал руку на плече плачущего Белинского. Мишель размышлял о пистолетах, о баллистике, о пуговице Дантеса, в которую угодила пуля Пушкина.
— В жизни я легкомысленен, — тихо говорил Станкевич, как всегда искренне и изящно, — и потому смерть Пушкина не сделала переворота в состоянии моей души. Но она глубоко поразила меня в первые минуты и потом оставила во мне какую-то неопределенную грусть. Висяша! Ну же, бодрее…
Виссарион с прерывистым длинным вздохом поднял распухшие глаза. Он ощущал утрату горше всех.
— Это был гений, гений! — тихо сказал он, и сильно моргнул ресницами, чтобы стряхнуть слезы. — В минутах его жизни замыкались целые века. Как вы не поймете! Миросозерцание Пушкина трепещет в каждом его стихе. В каждом стихе слышно рыдание мирового страдания… Ах, горе, горе! — он со стоном рванул одежду на груди и уронил руки на колени.
Читать дальше