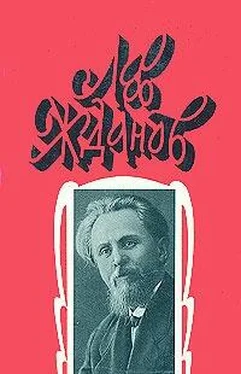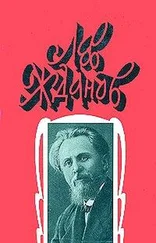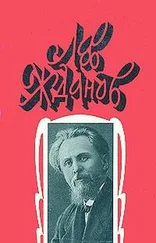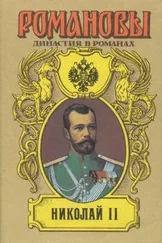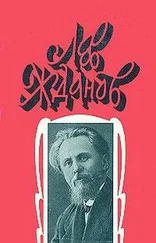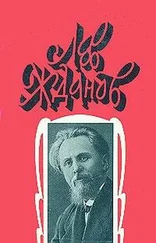— Матушка, княгинюшка! Да как же уж и клясться? Слышь, и на мощах на святых заклиналась… Вся твоя раба… Как не оставляешь ты меня… и дочку мою…
— Не оставлю. Много получила ты. В десять разов более дам. Все, что есть, отдам! Видела, сколь много припасла я за все годы? Сорочку продам, сниму с себя… Только послужи…
— Господи! Твоя раба! А и ты попомни. Ежели захватят меня, запытают, убьют ли… дочке моей все. Одна у меня дочка на свете. Для нее и грех на душу беру.
— Клялась и я тебе. Слово мной дадено. Только зелье-то твое не плохое ли?
— И, государыня! Десять лет пущай хоть в воде, хоть в огне пролежит… Дай человеку — и в день его не станет.
— Ладно. А ты не бойся ничего. Гляди: вот столбчики, цидулы тебе. Все к первым боярам писаны… Гляди… Доступ ко всем получишь. И от всего тебя укроют. Видишь? Бери, спрячь.
Бережно взяла Досифея три свитка, припечатанных восковой печатью.
Подойдя к большой неугасимой лампаде перед ликом Божьей Матери всех скорбящих, монахиня стала разбирать четко выведенные буквы, имена и прозвания тех, кому посылались письма.
— Ленинские… Свои против своих! Тоже, чай, Оболенских роду… Шуйские. Нда… люди все значные, — пробормотала Досифея, завертывая письма в платок и пряча их на груди.
— Видишь! Без опаски поезжай. Когда мыслишь в путь, с Божьей помощью?
— Да хошь завтра.
— Так, ладно… И не сказывай в пути, что в нашу обитель заезжала… С Богом, на покой иди… Гляди…
Ранняя Пасха приспела в этом году.
Радостно гудят колокола над державной Москвой. Подвешены они на новой колокольне, начатой Василием и только недавно достроенной.
Поют их медные зевы под ударами тяжких языков хвалу Светлому Празднику, хвалу Тому, Кто воскрес из мертвых.
Отошла пасхальная служба в соборах и церквах кремлевских. Опустели улицы и площади, где всю ночь черно было от народа. Только дозорные темнеют на стенах да звонко перекликаются от времени до времени.
Тихо на кремлевских площадях. Но необычное оживление царит в эту ночную пору в ярко освещенных новых каменных палатах дворцовых.
Великий князь Иван Васильевич разговляется, по обычаю, окруженный ближними боярами, дворней, стрельцами и прочей челядью, христосуется со всеми, дарами одаряет. И Елена тут же.
К концу уже приходит трапеза. Руки омыл княжич. Глазки сами слипаются у него.
— Мамушка, спать хочу больно… Устал, слышь. Можно ли? — негромко спрашивает он.
— С Господом, сынок! Можно. Прощайся да отпущай бояр!
Прощаться начал со всеми ребенок.
В это время подошла к Елене Челяднина.
— Пожалуй, государыня-матушка…
— Что надо? Сказывай.
— Богомолица одна тут… Старица Досифея. Из Вознесенского, из обители.
— Знаю, помню… видывала ее. Чего же ей? Послано будет в обитель, как водится…
— Не то, слышь, господарыня. На Сионе была она. До святого града, до Ерусалиму, добрести сподобилась… Памятку оттуда, говорит, принесла тебе. Просфора при гробе Господнем свячена. Да яичко красное… Не побрезгуй, дозволь ей челом ударить…
— Нешто можно такой святыней да брезговать? Подведи к нам. Где она?
— Недалечко… кликну в сей час… Плещеева боярина женка о ней и поведала мне. С ней и в покои прошла старица та благочестивая.
— Ну, веди, веди. Отдарю, чем есть, доброхотную.
И Челяднина сама, ничего не зная, подвела отравительницу к Елене.
Набожно, на чистую ширинку (платок) приняла святую дань обруселая уже княгиня московская.
А Досифея поклоны отбивает да сладенько приговаривает:
— Сподобил Господь… Вкуси, как оно подобает: натощак завтра рано. Краше да здоровей станешь, чем и есть, княгинюшка-красавица, господарыня моя милостивая.
— Спаси тя Бог. Уж вестимо… сама знаю. Отдарила Елена монахиню, чем пришлось, и та удалилась, исчезла из виду так же незаметно, как пришла.
Сдавши на руки боярину-приставнику ребенка-государя, ушла к себе Елена.
Под иконы, за киотный занавесь положила она дар Досифеи.
Челяднина стала на ночь расчесывать волосы княгине и вдруг заметила две одинокие слезинки, которые неожиданно выкатились из глаз и повисли на длинных ресницах Елены.
— Что с тобой, желанная? — участливо, без обычного раболепства спросила Челяднина.
— Сама не знаю. Что-то сердце давит… Может, оттого, что сон плохой видела этой ночью.
— Что за сон? Скажи! Может, и не так плох, как думаешь?
— Ох, нет. Вещий то, плохой сон, Грушенька.
— Все одно, скажи… Может, легче станет…
— Вот слушай… Снилось мне ночью, в саду я сижу. Вдруг засияло все небо. Гляжу: четыре солнца выкатилось, четыре луны под ними в ряд стало. Постояли малость и стали вниз катиться… А земля словно пасть раскрыла и в той пасти солнца все и четыре тех луны скрылись.
Читать дальше