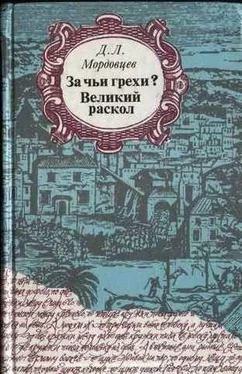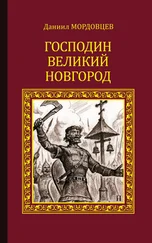— А у нас не поживешь?
— Поживу, помолюсь, коли милость твоя ко мне будет.
— Живи, у нас место найдется, и корм будет.
— Спасибо, святой патриарх.
Потом, немного помолчав, Разин спросил:
— А твое великое благословение на Дон будет?
— Я Дон благословлю иконою, — отвечал патриарх.
— А что мы казацкою думою надумаем — и то благословишь?
— Коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и мое благословение. По тебе сужу, что донские казаки не суть рабы ленивые у Господа — молятся неленостно.
— Плоха наша молитва, — отвечал Разин грустно, — не высоко подымается.
— Для чего не высоко?
— Должно, грехи не пущают до неба — не доходит до Бога, — продолжал Разин как-то загадочно.
— Не дело говоришь, Степан, — строго заметил патриарх, — Бог и высоко, и низко живет — до него все доходит.
Разин молча покачал головою и вздохнул.
— У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе, — сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника.
Разин молчал, только рука его, брошенная на колено, задрожала.
— А кто виною печали твоей? — с участием спросил патриарх.
— Те же, что и твоей, владыко святой, — еще загадочнее отвечал гость.
— Ноли бояре?
Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный.
— Ты что, Иванушко? — тревожно спросил патриарх. — Что случилось?
— Бояре со стрельцами приехали.
— Спира воинская… взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, — сказал он, вставая во весь свой рост. — Слуги Анны и Каиафы идут за мною.
Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.
— Что это? — тревожно спросил Никон.
— На бояр, — сипло отвечал гость.
Никон вздрогнул.
— Нет, не буди Петром… вложи нож… Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, — торопливо говорил патриарх.
Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили — так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.
— Вложи нож, Степан, вложи! — повторил Никон, слыша шум в сенях.
Разин спрятал нож.
— Так к нам на Дон — мы не выдадим, — сказал он угрожающим голосом, — мы их разтак…
В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.
— Анна и Каиафа, — громко сказал патриарх, откидывая назад голову, — кого ищете? Се аз есмь…
— Комедиант! — проворчал про себя Алмаз Иванов. — Эки действа выкидывает.
Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.
— Иди с Богом, сын мой, — сказал Никон, благословляя Разина. — Помолись обо мне.
Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.
— Эки буркалы, — проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку. — Н-ну глазок!
ГлаваV. Аввакум и боярыня Морозова
Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». С своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове — сынка Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне — молодая боярыня действительно была «леповида» — существо необыкновенно миловидное, и «лепослова» — потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».
Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для нее наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество. Громыханье посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и — как верх эстетического наслаждения — пенье песен сенными девушками — вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу