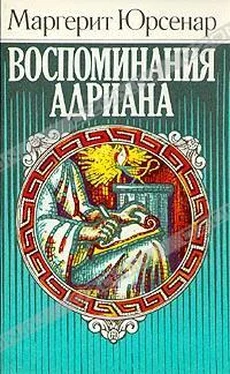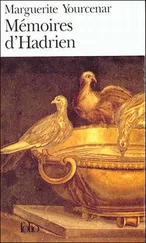Частые посещения Малой Азии сблизили меня с группой ученых, занимавшихся магией. У каждого века свои дерзания; лучшие умы нашей эпохи, уставшие от философии, которая все больше становится повторением заученных фраз, приблизились к рубежам, запретным для человека. В Тире Филон Библосский открыл мне некоторые секреты старинной финикийской магии; он отправился вместе со мной в Антиохию. Истолкование, которое Нумений давал мифам Платона о природе души, было достаточно робким, но могло далеко завести ум более отважный, чем его собственный. Его ученики вызывали демонов — игра не лучше и не хуже всякой другой. Диковинные фигуры, казалось порожденные сокровенной сущностью моих сновидений, возникали передо мной в благовонном стираксовом дыме, дрожали и таяли, оставляя ощущение сходства с кем-то живым и знакомым. Возможно, все это было проделками фокусника, но в таком случае надо признать, что фокусник знал свое дело. Я снова взялся за изучение анатомии, которой занимался еще в юности, но теперь она понадобилась мне не для того, чтобы понять, как устроено человеческое тело. Любопытство влекло меня к тем пограничным областям, где душа сливается с плотью, где мечта совпадает с действительностью, а временами и опережает ее и где жизнь и смерть меняются своими свойствами и личинами. Мой врач Гермоген не одобрял этих опытов, но тем не менее познакомил меня с несколькими практикующими врачами, работавшими над этими же проблемами. Я пытался вместе с ними определить место, где расположена душа, найти связи, с помощью которых она сообщается с телом, измерить время, необходимое ей для того, чтобы от него отделиться. Несколько животных было принесено в жертву этим исследованиям. Хирург Сатир приводил меня в свою клинику, где я не раз наблюдал агонию. Не является ли душа наивысшей ступенью тела, хрупким воплощением тягот и радостей человеческого существования? — размышляли мы вслух. Или, быть может, наоборот, она древнее, чем тело, которое вылеплено по ее подобию и, худо ли, хорошо ли, какое-то время служит ей инструментом? Можно ли снова призвать ее обратно, снова установить между душою и телом тесный союз, возобновить то горение, которое мы называем жизнью? Если души обладают своей самостоятельной сущностью, могут ли они меняться между собою местами, способны ли они переходить от одного существа к другому, подобно кусочку плода или глотку вина, которыми из уст в уста обмениваются влюбленные? У каждого мудреца по двадцать раз в год меняются взгляды на эти вопросы; скептицизм боролся во мне с горячей жаждой знания, энтузиазм — с иронией. Но я был убежден, что наш разум позволяет просочиться в нас лишь очень скудному числу фактов; и меня все больше и больше притягивал к себе смутный мир ощущений, непроглядная тьма, в которой вспыхивают и вращаются ослепительные солнца. Примерно тогда же Флегонт, который коллекционировал истории о привидениях, рассказал нам однажды вечером случай с «Коринфской невестой», за подлинность которого он ручался. Это приключение, в котором любовь возвращает душу на землю и на какое-то время снова дает ей тело, взволновало всех нас, но каждого по-своему. Многим захотелось повторить подобный опыт; Сатир пытался вызвать душу своего учителя Аспазия, когда-то заключившего с ним один из тех никогда не выполняющихся договоров, согласно которым тот, кто умрет первым, обещает поделиться с оставшимся в живых сведениями о загробной жизни. Антиной тоже дал мне такое обещание, но я отнесся к нему легкомысленно, поскольку у меня не было никаких оснований предполагать, что этот ребенок умрет раньше, чем я. Филон пытался вызвать свою умершую жену. Я согласился на то, чтобы были названы имена моего отца и моей матери, но что-то похожее на стыдливость помешало мне вызвать Плотину. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. И все-таки двери в неведомое приоткрылись.
За несколько дней до отъезда из Антиохии я, по обыкновению, решил совершить жертвоприношение на вершине Касия. Восхождение состоялось ночью; как и при восхождении на Этну, я взял с собою лишь нескольких физически крепких мужчин, моих друзей. Я решил не только исполнить искупительный обряд в этом наиболее священном из всех наших храмов, я хотел еще раз увидеть сверху начало рассвета, то каждодневное чудо, которое я всякий раз созерцал с тайным ликованием в душе. С этих высот видишь, как солнце заставляет сверкать медные украшения храма, как улыбаются озаренные ярким светом лица, а равнины Азии и гладь моря еще погружены во мрак; на несколько мгновений человек, который молится на вершине, оказывается единственным в целом мире существом, вкушающим радость утра. Все было приготовлено для жертвоприношения; мы поднимались сначала верхом на лошадях, а затем пешком по крутым и опасным тропинкам, окаймленным дроком и мастиковыми деревьями, которые легко было узнать даже в темноте по их запаху. Было душно; эта весна полыхала жаром, точно лето. Впервые в жизни у меня при подъеме в гору перехватило дыхание; я вынужден был на миг прислониться к плечу моего любимца. Гроза, которую уже давно предвещал Гермоген, немного занимавшийся метеорологией, разразилась, когда мы были в сотне шагов от вершины. В сверкании молний навстречу нам вышли жрецы; кучка промокших до нитки людей сгрудилась вокруг алтаря, предназначенного для жертвоприношения. Мы уже приступили к обряду, как вдруг вспыхнувшая над нами молния поразила одним ударом и человека, и жертву. Когда первые мгновения ужаса прошли, Гермоген, как любознательный врач, наклонился над сраженными телами; Хабрий и верховный жрец не смогли сдержать возгласов восхищения: человек и молодой олень, оба принесенные в жертву взмахом божественного меча, соединились с бессмертием моего Гения; эти две жизни, подставленные в замену моей, продолжили ее. Вцепившийся в мою руку Антиной дрожал — не от страха, как мне тогда показалось, но от внезапно озарившей его мысли, которая стала мне понятна лишь впоследствии. Юное существо, безумно боящееся старения, наверно, давно уже решило умереть при первом же признаке собственной слабости или, может быть, даже не дожидаясь его. Ныне я склонен думать, что обещание это, которое многие из нас дают самим себе, но обычно не выполняют, восходит у него еще ко времени Никомедии, к той нашей встрече у ключа. Этим, возможно, и объясняется его вялость и жажда наслаждений, его грусть и полное безразличие к будущему. Молния на вершине Касия указала ему выход: смерть могла стать для него последней формой служения, его последним даром — последним и единственным мне даром, остающимся навеки. Краски зари показались мне бледными рядом с улыбкой, которая вспыхнула на этом потрясенном лице. Несколько дней спустя я снова увидел ту же улыбку, только слегка пригашенную и немного двусмысленную: за ужином Полемон, занимавшийся хиромантией, пожелал рассмотреть руку юноши — ладонь, на которой меня поражала странная линия жизни. Антиной отвел свою руку и сжал ее в кулак мягким, почти стыдливым движением. Ему хотелось сохранить тайну своей игры, тайну своей смерти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу