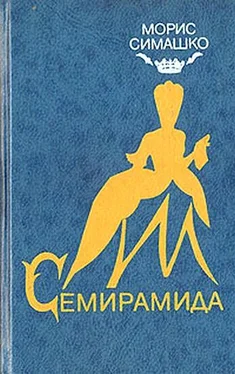— Завтра приступ!
Возвратившись в штаб, узнал фамилию полковника, оказавшуюся почему-то двойной. Продиктовал в приказе ему и с полком первым идти завтра на стену…
III
Вдруг перестало болеть в груди. Сделалось совсем тихо в мире. Он лежал и смотрел в морозное звездное небо. Слышно было, как солдат-ездовой спрашивал дорогу на Ростовец. Он и сам мог бы сказать солдату, но лежал, не разрушая этой ниспосланной божьей тишины.
Их, побитых под Очаковом офицеров, везли обозом, на устланных сеном телегах. По одной, по две всякий день сворачивали в сторону, пока не осталось их четверо. Теперь надо было сворачивать ему. Где его Ростовец, он видел по небу, но объяснить бы свое чувство не мог. Наверное, так птицы определяют путь домой…
Все, до каждого мгновения, помнил он из того времени, даже пустой колосок, трепетавший под жгучим морским ветром. Когда аскеры отбросили четвертую лестницу от стены и солдаты поставили пятую, он сам полез наверх со шпагою в руке. Тогда и увидел этот сухой колосок, который рос на самом верху между двумя плитами известняка. Его удивило, как мог там вырасти…
А накануне стоял с Шемарыкиным и смотрел, как солдаты подрывали турецкий окоп. Ничего не могли они сделать против этого, поскольку солдаты их и не спрашивали. Вся армия гудела на таврического князя, что неспособен к войне и только людей морит, пугаясь решительных действий. Одинаково и флот его не принимал. Адмиралы прямо говорили, что фрегаты не от шторма потонули, а сырое дерево для них покупал, на парусине да канатах миллионы нажил.
Целый год спокойно смотрели, пока инженеры из Европы очаковские бастионы укрепляли, аскеров правильной обороне учили и припасы везли. В лимане и на Тендре флотские тоже без разрешения князя с малыми судами турок громили. Суворов требовал с ходу Очаков брать, так светлейший возражал, что о солдатах беспокоится. А за год от одного тифу да гнилых сухарей, что потемкинские интенданты снабжали, половина армии стаяла. Так все тут и называлось: «потемкинские сухари», «потемкинские домы», а если был без мяса, то «потемкинский суп». И повторяли суворовскую фабулу про «светлейшие потемки», куда закатилася русская слава.
Знали, что государыня тоже требует скорее приступ делать, да когда в человеке по многим грехам его дурная опасливость все прочие чувства превозмогает, то сам себе уже не верит. И на выстрелы турецкие из крепости велел не отвечать, чтобы большого сражения не случилось. Ждал, что война сама собою успокоится. Пока, что ни день, балеты устраивал, и в виду армии содомские мерзости и бесчинства с навезенными фаворитами да графинями совершал. Говорили: в вине с ними на афинский манер купается и римскую тогу носит. Все дозволяется ему, как никому другому раньше…
С Шемарыкиным опять тут встретились, и полки их стояли в одной диспозиции. С утра в этот день все с ним не разговаривал. Тот по своей манере солдату за что-то кровь с лица пустил, а он этого не любил. Тут и случилось, что солдаты самовольно в турецкий ложемент залезли, а затем светлейший князь прискакал. Шемарыкина же по зубам и съездил, а тот лишь пучился от страха. То обычное дело: кто как с меньшими себя держит, так же и с собою позволяет…
На него светлейший князь смотрел с удивлением. Голову откинул и заморгал вдруг единственным глазом, прежде чем сверкнуть опять на целый свет. Потом закричал про приступ…
И грудь ударило уже наверху, когда приколол шпагою янычара, вставшего на пути. В последний момент увидел, как сноп огня вырвался из пушки, что поставлена была по европейскому правилу от противоположного края бастиона. Падая уже, смотрел, как прибежавшие суворовские солдаты из Кременчугской дивизии штыками кололи канониров…
Телега дернулась, заскользила железным ободом по снегу. Но ничего не болело, и дышать было просто. Другие раны у него дольше болели: те, что получил в Пруссии, со шведами, в Польше и когда-то еще с турками. Он думал о доме, куда его везли, о том, что происходило с ним в эти дни и во всю его жизнь…
Она прошла совсем светлыми, несмотря на ночь, комнатами. Фавны и генералы смотрели со стен, будто зная ее замысел. В странной белизне ночи картины излучали тайную жизнь. Потолки сделались выше, и пронза получала суровый смысл. Только статуи омертвлялись этим равномерным и призрачным светом, при котором мрамор умирал и делался обычным камнем.
На заднем дворе ее ждала карета, каких сотни ездят по трактам и дорогам. Без чьей-то помощи она села туда, и карета сразу тронулась в приготовленные ворота. Когда выехала, шесть конных гвардейцев без знаков полка на одежде пристроились в полуста шагах за нею.
Читать дальше