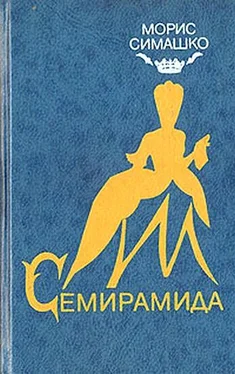А императору Австрийскому, наследующему другую половину Рима, предоставлено будет все к западу от того меридиана, а именно подлежащий ему Рим, Белград и взятые от Венеции славяне. Венеции же в компенсацию отданы будут побережье и острова, оставшиеся от гурок. Соответственно императоры станут курировать и свои церкви, стабилизуя общий мир. Тут, конечно, закипит все в Европе, противодействуя этому, да только что смогут сделать противу двух мировых империй. Впрочем, французам возможно из того предложить Египет…
Все идет, каково следует. В санях приехала в Киев, где в святорусских древних местах дожидается весны и тронется в Тавриду. Досадно лишь, что великий князь Константин приболел сыпью, и обоих внуков оставила дома с тем, чтобы к лету встретили ее уже в Москве. Отца их, злобствующего противника «греческого проекта», поэтому и не брала с собою. Тот уже вовсе на Пруссию молится, подобно всякому прирожденному голштинцу. А вместо великого короля Фридриха на престоле там с прошлого году вполне соответствующий тому голштинскому идеалу Фридрих-Вильгельм, чей глазомер дальше кончика сапога не распространяется. Еще и франмасонство будто бы их роднит…
Вспомнила вдруг, как приехала в сенат в первый раз после объявления ее императрицей. О том самом и пошла сначала речь. Петра Великого карты были куда-то заброшены, так дала пять рублей и послала курьера в академию, чтобы купил карту Российской империи и с соседями…
Провести вечер для себя, как сегодня, разрешала себе не часто. Ужинали без чужих, втроем: напротив князь Григорий Александрович Потемкин и по левую руку при ней юный «l'habit rouge» — «Красный Кафтан». Таково с первого дня прозвала своего пылкого и любезного адъютанта Мамонова.
Но глубокая скорбь не уходила. Она пряталась в тайниках сердца и вдруг обозначалась неожиданными слезами. Лишь двадцать шесть лет было ему, кого потеряла два года назад. Лежал в гробе совсем такой, как писала о нем последнему оставшемуся в живых другу-энциклопедисту Гримму: «Если бы вы видели, как генерал Ланской вскакивает и хвастает при получении ваших писем, как он смеется и радуется при чтении! Он всегда огонь и пламя, а тут весь становится душа, и она искрится у него из глаз. О, этот генерал существо превосходнейшее. У него много сходного с Александром. Этим людям всегда хочется до всего коснуться…»
Да, все то сразу видела она в нем: внука, неизвестного сына и возлюбленного — как видит это женщина в каждом мужчине. Никакого значения не имели ее годы. То была поэма о любви, почти равноценная Петрарковой. Днем под ее материнским руководительством он усердно трудился над своим образованием, усваивал ее вкусы, разделял семейные огорчения и радости. Ночью же это был подлинный Феб, властительный и прекрасный…
Она впала в горестную немочь, не ходила к обедне и не могла видеть человеческого лица. Ночами напролет лежала с уставленными в пустой потолок глазами, а при том всем твердо делала распоряжения по внутренним и иностранным делам. Тем не менее тогда и явились в первый раз предположения в Европе о скорой ее кончине.
Лишь князь Григорий Александрович, прискакавший с юга, да Федор Орлов спасли ее в то время от помешательства. Они пришли вместе и взялись плакать и сочувствовать, вспоминая добрые качества потерянного друга. Она разрыдалась с ними вместе, и будто спущенная завеса раздвинулась перед нею вновь. Только щемительная память навсегда осталась в сердце…
И еще одна безвозвратная потеря значилась в душе. Князь Григорий Орлов, отошедший от двора, жил некоторое количество лет в Ревеле. Как видно, судьба ему была, что женился все же на Екатерине, и, коль правду молвить, первейшей из красавиц России. С нею поехал в Европу, а когда княгиня Екатерина Николаевна, урожденная Зиновьева, умерла, вернулся вовсе не в себе. Приходил к ней во дворец и шел мимо людей, будто и лунатическом сне. Увидавши ее, становился истуканом, бормотал что-то, как бы с кем разговаривая внутри себя. Потом умер в Москве почти в один день с Паниным, что помешал ему когда-то сделаться ей мужем. К Гримму же писала о том событии: «В нем я теряю друга и общественного человека, которому я бесконечно обязана и который мне оказал существенные услуги. Гений князя Орлова был очень обширен; в отваге, по-моему, он не имел себе равного…»
И об Гришке она плакала; все казался ей в белой рубахе на льду; оборачивается и смеется ослепительно…
Князь Григорий Александрович, как видно, приметил своим сощуренным глазом ее минорность и весело взялся рассказывать про графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, про которого составляются многие армейские анекдоты. Не в пример прочим офицерам, годами живущим вдали от дома и чьи жены прославлены в столице громкостью поведения, супружница генерал-фельдмаршала являет прямо-таки образец добродетели. Самые злоречивые Двороброды не имеют возможности назвать ее амуров. И таковы ее христианине правила, что на рождество прислала знатные подарки не только к мужу, но соболью муфту и модное платье к его пассии, живущей с ним при лагере. Старик даже заплакал от умиления и с чувством молвил: «Когда бы знал имя ее любовника, то непременно бы одарил ответно!»
Читать дальше