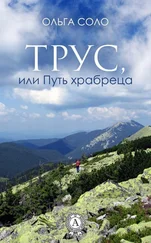— Ольга Львовна, я имею на каждой телогрейке убыток десять копеек. Теперь вы стали столько их делать, что я совсем разорюсь.
И только когда я подсчитала ей, на сколько уменьшились накладные расходы, когда вместо двух бригадиров остался один, вместо двух механиков, двух уборщиц, двух сторожей — по одному, когда расходы на помещение, освещение, бухгалтерию и пр. делились не на 125, а на 300 телогреек, она поняла и обрадовалась.
Таков был уровень руководительницы нашего производства.
Как только у меня определилось место ссылки, Николай бросил работу, друзей, как-то налаженную жизнь и приехал ко мне в Караганду. Это стало, конечно, главным событием в моей ссыльной жизни. Мы сняли комнату с кухней, Николай поступил на работу. Вновь у меня была семья, можно было жить спокойно, без страха проверки паспортов, отдохнуть от нелегального существования.
Летом на каникулы к нам приезжали мои дети. Дочь подружилась с Николаем, восхищалась его мужеством, бесстрашием, по-моему, тянулась к нему, как тянутся к отцу. У нас в Караганде образовалась своя компания — Валя и Юра Айхенвальды, Алик Вольпин (Есенин), несколько друзей по работе, тоже ссыльные. Мы часто ходили в гости, приходили и к нам. Короче, если не считать унизительных процедур отметок в МГБ, была нормальная человеческая жизнь.
Но увы! Очень скоро я поняла, что стою на краю пропасти. За те три года, что мы провели в разлуке, у Николая созрела решимость бороться. Выходец из крестьян, он хорошо понимал, чего стоило народу «раскулачивание». Кадровый военный, он не мог простить Сталину разгрома командования армии перед самой войной. А сколько еще! Пытки на допросах, преследование попавших в плен солдат, добровольно вернувшихся на родину, и т. п., и т. п.
Об этом он говорил не только с близкими друзьями, но и с молодыми ребятами на своей работе, которые тянулись к нему. Это продолжалось целый год. Николай чувствовал себя окрыленным и на все мои мольбы быть осторожным отвечал, что хочет погибнуть в борьбе, а не подлым рабом.
29 апреля 1951 года его арестовали.
На следствии он пытался сагитировать следователя, который его прямо-таки боялся, как бы с ним тоже не попасть во «враги народа».
И снова у меня началось страшное время. Очереди с передачами в тюрьму. Страх самой снова попасть в тюрьму, теперь за второго мужа. Выдержать это второй раз не было сил.
Два месяца следствия я не входила в свой дом — это было выше моих сил. Жила у Вали Герлин и Юры Айхенвальда. Узнав приговор суда, я пришла к ним совершенно больная и легла на кровать. В полубреду я увидела, что Валя вошла в комнату с каким-то мужчиной. Я не слушала, о чем они говорили, долетали отдельные фразы: «Обокрали…» — и детский смех с подвизгиванием и фырканьем. «Ну, как-нибудь образуется, это все ерунда. Лучше я почитаю вам стихи». И он начал читать.
Читал он: «Якобинца», «Оду», «Невесту декабриста», «Знамена» и еще многое.
Никогда ни одни стихи на меня не производили такого впечатления. Я была так убита, так унижена и своим положением, двухмесячным хождением с передачами в тюрьму, и наглыми соболезнованиями на работе: «Опять ваш в тюрьму угодил». А самое главное, всей стране, всему миру внушалось со страниц газет, речами на процессах, что революция, святая революция хранится «ими», а те, кто покушались на нее (я и мне подобные), растоптаны, повержены и место нам в навозе. И вдруг я слышу от своего товарища, такого же изгоя, отверженного, как я, полные достоинства слова:
Их той тяжелой силой придавило,
С которой он вступал как равный в бой.
Мне казалось — это о Николае.
И о Сталине.
Он революцию обокрал
И в нее нарядил себя.
И ода, где он воспевает свою революцию с такой силой и страстью, какие и во сне не снились всем официальным писакам. И трагические «Знамена»:
…А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его подымать?
А враг следит, очкастый и сытенький,
Заткнувши за ухо карандаш…
Смотрите!
Вот
он виден ясно мне!
Огонь!
В упор!
Но тише, друзья…
Он спрятался за знаменами красными,
И трогать нам эти знамена нельзя!
И все же мечусь я,
дыхание сперло.
К чему изрыгать бесполезные стоны,
Противный, как слизь, подбирается к горлу,
А трогать его нельзя:
знамена!
Я встала, подошла к столу и увидела Манделя [1] Поэт Наум Коржавин.
. В это время ему было двадцать пять лет. Одет он был удивительно: желтые клетчатые штаны с великана, внизу подшитые, но со спускающейся до колен ширинкой. Пиджак у него был синий, когда-то хороший, но такой старый и грязный, что, когда я впоследствии его выстирала, он весь расползся у меня в руках — его держала только грязь. Его толстое некрасивое лицо со странными глазами (зрачки у него были неправильной формы, как будто рваные), детский смех, невероятный аппетит, с которым он ел немудреную пищу, предложенную ему Валей, манера забывать о еде и начинать снова и снова читать стихи, а потом снова набрасываться на картошку с капустой, а потом снова забывать о еде и говорить, говорить — все это мне ужасно понравилось. Я первый раз за последние страшные два месяца отвлеклась от своего горя и наблюдала за ним. Он с Валей и Юрой был уже на «ты». Я спросила, были ли они знакомы в Москве. Оказалось, что Валя, студентка литературного факультета пединститута, знала его в Москве по выступлениям поэтов, а он ее не знал. Валя шла по улице и увидела растерянного Манделя, у которого только что украли чемодан со всеми его вещами и деньгами. Она подошла к нему, спросила:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Ольга Адамова - Алана [СИ]](/books/33230/olga-adamova-alana-si-thumb.webp)