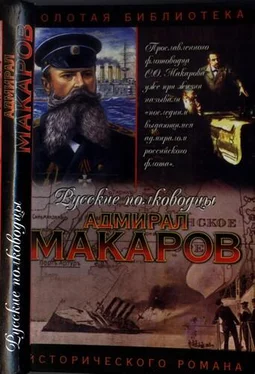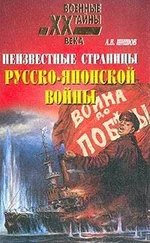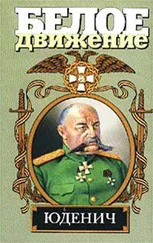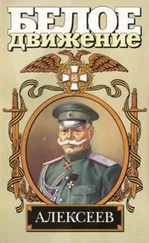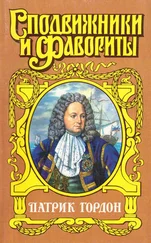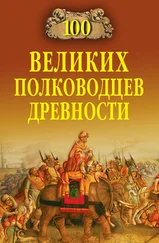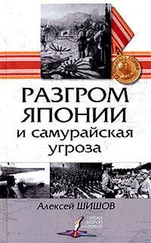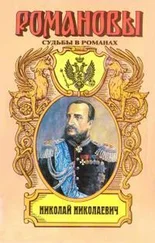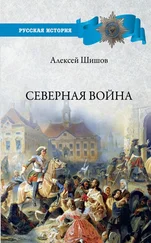На испытаниях присутствовал Макаров. Его больше всего поразило то, что переборки от напора воды прогибались. А когда воду из отсека откачивали, то этот прогиб оставался. По поводу дефектов в продукции российского кораблестроения Степаном Осиповичем была составлена соответствующая докладная записка, благодаря которой он нажил в Адмиралтействе немало личных врагов.
Записка имела название: «О непотопляемости броненосца «Наварин». Автор прямо заявлял, что один из самых современных броненосных кораблей флота России «представляет многие несовершенства по части непотопляемости».
Далее Степан Осипович приводил «уничтожающий» факт. Броненосец был разделен водонепроницаемыми переборками только до уровня жилой палубы. Казалось бы, что в этом опасного? Но опасность для живучести корабля состояла в том, что жилая палуба размещалась на высоте всего трех футов от забортной воды. То есть в случае затопления любого отсека «Наварина» жилые помещения для команды неизбежно оказывались под водой.
Когда вице-адмирала Макарова спросили, почему такое стало известно только после ввода эскадренного броненосца в строй флота Балтийского моря, тот ответил однозначно:
— На «Наварине» угольные ямы не были в свое время опробованы водой на проницаемость.
—
Разве испытание конструкции обязательно при постройке военного судна?
— Мое мнение — совершенно обязательно. О войне помнить надо.
Достоинством «кораблестроительного мышления» Макарова являлось то, что он не просто указывал на известные дефекты в конструкции броненосца «Наварин». Он писал, что надо сделать, чтобы их устранить вполне доступным способом и сделать судно более устойчивым в борьбе с водой:
«Я приказал при себе наливать воду в одну из угольных ям. Вся высота угольной ямы до жилой палубы 22 фута, но когда налили 12 футов воды, то пришлось прекратить наливание, ибо переборки стали прогибаться. Необходимо их подкрепить и опробовать наливание воды до верхней палубы».
Заключение Степана Осиповича в «наваринском деле» было высказано в самом категорическом тоне:
— В таком виде корабли строить невозможно...
Макаров не был одинок в своем противостоянии с Адмиралтейством в вопросах технического совершенства отечественного кораблестроения. Словно пересказом его мыслей стала статья Токаревского в журнале «Русское судоходство» под впечатляющим воображение названием «Искалеченные броненосцы». Автор статьи видел главную беду в следующем:
«...Абсолютная специальная власть, действующая в посторонней для нее технической области и на почве слепой экономии...
Если бы административная власть была менее абсолютна, если бы она была ограничена мнениями специалистов, основанными на праве голоса, — у нас не было бы «поповок», не было бы круглых «Ливадии», не было бы перегрузки судов и не было бы рыночной их постройки».
Правота макаровских мыслей подтвердилась самым печальным образом и в самом скором времени. 12 июля 1897 года в море погиб эскадренный броненосец «Гангут». В заключении о гибели «Гангута» говорилось:
«...Осадка его настолько превышала таковую же по чертежу, что жилая водонепроницаемая палуба была только на один фут выше уровня воды, вследствие чего от прибыли воды через пробоину она оказалась весьма скоро ниже этого уровня».
Трагическая гибель броненосца «Гангут», получившего подводную пробоину, вызвала самый нежелательный для Морского ведомства резонанс российской общественности. Об этом много писалось в газетах. Поэтому правительственные власти вынужденно пошли на предание виновных суду...
Макаров, будучи в Кронштадте, на удивление всем, много печатается. В феврале 1901 года увидел свет его замечательный труд «Ермак» во льдах». Книга вызвала большой интерес у широкого круга читателей. Она вышла немалым для того времени тиражом в 2000 экземпляров. Автор издал ее за собственный счет. Книга получилась на редкость привлекательной для читателя, с большим числом иллюстраций — фотографических снимков о жизни арктической экспедиции.
Макаров продолжает разрабатывать теорию непотопляемости судов, преимущественно военных. В этой работе он получил надежного помощника в лице Алексея Николаевича Крылова. Тот в Опытовом бассейне на моделях различных кораблей доказывал практическое значение макаровских идей. Показателен такой случай совместного научного творчества двух замечательных исследователей.
Читать дальше