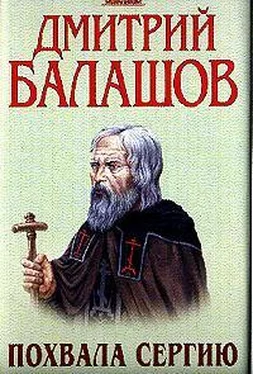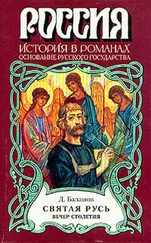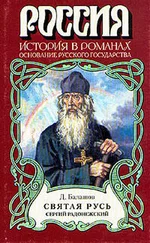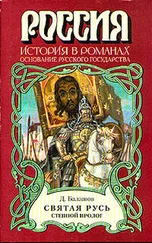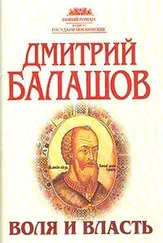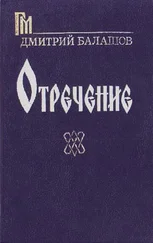Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!
Стефан замолк как отрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь. Путь был означен. Им обоим. И – он знал это – другого пути не могло быть.
– Стефан! – спросил он после долгого молчания, – что нам… что мне, – поправился он, зарозовев, – надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?
– Человек все может и так… – устало возразил Стефан. – В яме, в училище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много… любому… когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно… да ты все знаешь и сам! – Стефан вздохнул, вновь берясь за рукоять секиры. – Наума покличь!
Варфоломей единый незримый миг медлит, обернув к брату пронзительный взор, и прежде, чем соскочить с подмостий, выговаривает серьезно:
– Я с тобою, Стефан! Что бы ни сталося впредь, я с тобой!
Истекает Филипьев пост. Близится Рождество. Земля плотно укутана в толстую белую шубу. Метет. Серебряные струи со звоном и шорохом обтекают углы клетей. Весь Радонеж в белой мгле. Кони под навесом жердевой стаи сбились в кучу, прячась от ветра, греют друг друга. Темной, убеленной ветром громадою высится терем Кирилла, обширный, в две связи, поставленный на высокий подклет. Третьелетошние бревна уже посерели и потемнели от вьюжных ветров и косых дождей. Снег, набитый ветром в углубленья пазов, подчеркнул и выкруглил белою прорисью каждое бревно. Челядня, поварня, амбары и клеть прячутся и тонут в дыму мятели. Едва-едва проглядывают соседние избы и огорожи. Редкий огонь мелькнет в намороженном слюдяном оконце, редко откроется дверь. Кому охота в такое непогодье высовывать нос из дому?
Вся семья Кирилла в сборе, кроме Варфоломея. Он из утра уехал за сеном. В первой, проходной, горнице терема, где разместились четыре семьи старшей дружины Кирилловой, горит одинокий светец. Бабы прядут, судача о своем. Дети залезли на полати, сопя, возятся друг с другом в темноте. Яков с Даньшею лениво передвигают шахматы по доске. Разговор о том о сем, но все больше как-то задевает Терентия Ртища – наместнику надобны люди, и многие ростовчане уже заложились за боярина, даже один из бывших Кирилловых холопов подался на сытные московские хлеба.
– Нашему бы господину от московитов какую волостишку на прокорм… – пряча глаза, роняет Даньша. Рука его замирает в нерешительности, наконец двигает по доске грубую кленовую фигуру. Яков, сощурясь, переставляет лодью, бормочет, словно бы про себя:
– Прошло время!
Его самого, отай, перезывали в дружину Терентия, о чем Даньше пока ведать не надлежит. «А ни лысого беса нам не дадут!» – думает он сокрушенно, пока еще по привычке не отделяя себя от господина своего.
– Ни лысого беса не дадут, устарел наш боярин! – произносит он почти вслух, забирая лодьей супротивничьего коня.
Во второй горнице, за рубленою стеною, за закрытою дверью – Кириллова семья. Потолок в саже и здесь: топят по-черному. Но ниже досок – отсыпок стены и лавки выскоблены дожелта, и в двух стоянцах теплются высокие свечи.
Мария, как по всякой день вечером, шьет, привычно и споро орудуя иглой. Кирилл, примостясь рядом, у той же свечи, щурясь и отводя книгу далеко от себя, перечитывает жития старцев египетских. (К старости стали сдавать глаза: вдаль хорошо видят по-прежнему, а вблизи все расплывается и двоится.) Стефан у второго стоянца тоже погружен в чтение – изучает греческий синаксарий. Петр плетет силки на боровую птицу. Старая нянька сучит льняную куделю, мотает готовую нить на веретено. Голова у нее слегка трясется. Тихо. Слышно, как, огорая, потрескивают свечи в стоянцах. Мария, круто склонив чело, замирает с иглою в руке, слушает жалобный голос ветра за стеною.
– Должно бы уж Олфоромею быть! С кем уехали-то?
– С Онькой! – отрывисто отвечает Стефан. – Дороги замело, почитай, совсем…
– Вьюжная зима, – подает голос Ульяния, – коням истомно, поди!
– Доедут! – заключает Стефан и вновь утыкает взор в узорные строки греческого письма. Мария, с некоторою тревогою поглядев на старшего сына, вздыхает, переведя речь на иное:
– Онисим даве баял, князь Иван Данилыч будто опять в Орду укатил…
Кирилл отрывает покрасневшие глаза от книги, с трудом возвращаясь к тутошнему земному бытию. Трудно думает, шепчет что-то про себя, морща лоб.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу