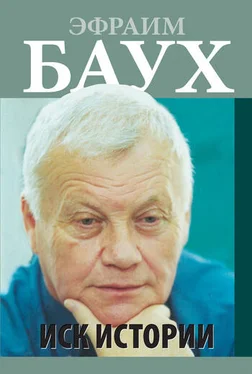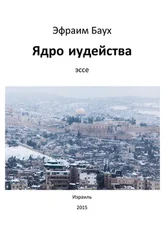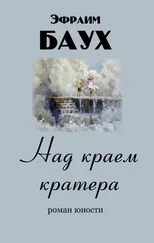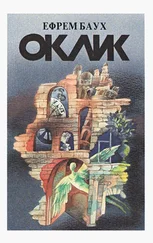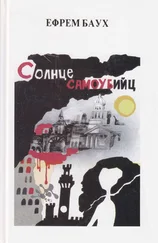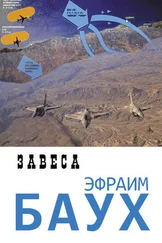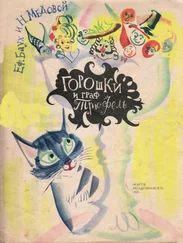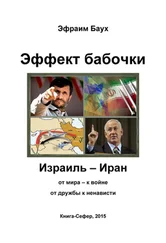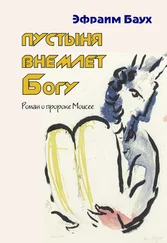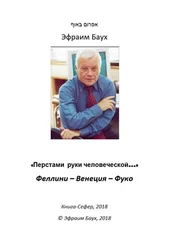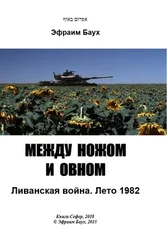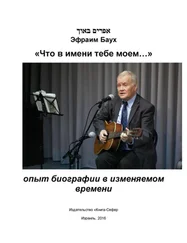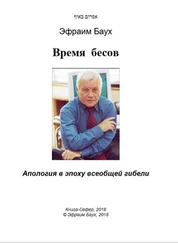Вместе с ним язычество, усмиренное в иудаизме христианством, шумно вырвалось из своей «вещи в себе», и с черного хода ворвалось в храм.
С другой стороны, иудейская неуспокоенность, помноженная на давний иудейский мазохизм («подставь другую щеку»), на иудейскую самоненависть, замешанную на приобретенном немецком характере, проснулась в другом мальчике – Марксе.
Никакая «сука» его не будила (вспомним стихи Наума Коржавина: «Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спал?..»).
Ох, уж эти злые не выспавшиеся детки, которые роются в песке, в надежде прокопать земной шар. Выходило, что немец еврейского происхождения Маркс более ненавидит евреев, чем немец польского происхождения Ницше. Тут мысль впрямую упиралась в вопрос: являются ли эти два злых немецких ребенка, поставившие себя «по ту сторону добра и зла», – «отцами» двух далеко не детских игр – социализма и национал-социализма? Две эти игры, научно названные «идеями, охватившими массы», выпестовали не просто двух злых детей, а настоящих ублюдков «по ту сторону добра и зла», сотворивших чудовищную «бездну Шоа-ГУЛаг» – Гитлера и Сталина.
Маркс весьма уютно чувствовал себя в уже привычной для иудейской среды самоненависти. Ницше же, прокламируя свою независимость, не избегает угрызений совести. Он говорит о себе, как о человеке, который «вступает в лабиринт… в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою; из них не самая малая та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части Минотавром совести…»
Более того, как случайно оговорившийся обвиняемый, которому в будущем может быть предъявлен иск, Ницше пишет: «Философия сама есть тиранический инстинкт, духовная «воля к власти», к «сотворению мира»… Наши высшие прозрения должны – и обязательно! – казаться безумствами, а, смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого…»
Эти мысли не давали мне спать. Я вставал ночью, прислушиваясь к дыханию жены и сына, совсем еще мальчика, я повторял про себя часто произносимые бабушкой, которая проживала с мамой в другом городе, слова на идиш: «Гот зол олтн ойф зей ди рехтэ онт» – «Господь, простри над ними свою десницу». Само мое существование, мальчика, вброшенного в кровавый водоворот Второй мировой войны, было чудом верблюда, проскользнувшего в игольное ушко «Шоа-ГУЛага».
И, не в силах заснуть, я думал об еще одном мальчике. Еврее. Был ли мальчик? Да, но это был мальчик для битья, который в противовес другому, пошедшему на крест, пытался, согласно легенде, заткнуть пальцем отверстие в плотине. Все, идущие за распятым из века в век, улещивали, уговаривали, угрожали мальцу, требуя открыть отверстие, чтобы вся эта масса вод хлынула, смела всех, и самих уговаривающих, с пути, обернулась новым Ноевым потопом духа, освобожденного от всех узд и уз.
По библиографическим спискам к книгам Ницше можно было представить, какая масса имен с восторженным гиком кружится в водовороте прорвавшейся плотины. Потоп, захлестнувший мир двумя мировыми войнами с таким ничтожным знаковым наоборотным интервалом – 1914-1941 – в одно поколение, – еще несет на гребнях своих валов много кровавого и разрушительного, обещая человеческому роду долгую жизнь в вихре разрушения, и род этот уже даже уютно обустраивается на каких-то клочках суши в этом бушующем потопе.
Но у мальчика для битья, обладавшего мужеством пальцем сдерживать плотину, есть и своя родословная, пусть трагическая, кровавая, но спасительная для человеческого рода, как всегда убивающего своих спасителей: избранность Богом, который, по Ницше, умер. Только этим Ницше преступил черту, и никакие изыски стиля и, вероятно, бездарно переведенные на русский его стихи – прокладки в текстах, не могли оправдать того, что он произнес: Бог умер.
А Ницше тем временем веселится с клоунскими гримасами злого мальчика по поводу поисков идентичности, которую немцы, да и вся Европа, примеривают на себя, словно «костюмы» – моралей, верований, религий, политики, – и все это подобно «карнавалу большого стиля», все это ведет к «духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира», уже готовых перейти в плоскую, но смертельную, дьявольщину, в будущем.
Чутьем гениального неврастеника Ницше ощущает призрение Бога, которого он умертвил, Бога еврейских пророков. Это призрение дает ему прозрение будущего, но – в отличие от пророков – он испытывает к этому будущему – презрение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу