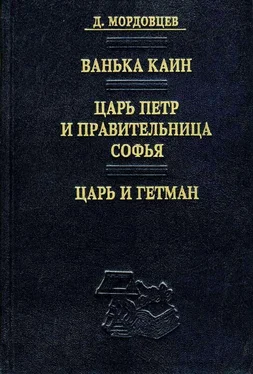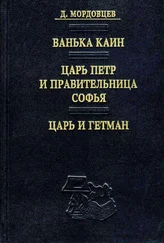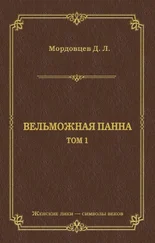Но может быть, она не любит его? Да и как, если б любила, письма от любимого человека попали бы в это проклятое дело? Да и зачем они тут? Зачем Кочубей привез их с собою? Не хотел же он срамить свою дочь…
Как ни был находчив Ягужинский, который, по уверению царя, мог найти маковое зерно в пуде пороха, но тут он растерялся. Дело касалось его самого — его сердца, его тайных дум… А он так долго ждал, все надеялся — авось царь повернет в Малороссию или его пошлет зачем-нибудь туда, в этот цветочный рай, в Диканьку… И вдруг — что ж это такое!
Но живуча человеческая надежда: это самое живучее в мире животное, живучее, кажется, чумного яду…
Ягужинский опять схватился за письма, опять читает:
«Мое серденько, мой квете рожаной! Сердечне на тое болею, що на далеко од мене едешь, а я не могу очиць твоих и личка беленького видети. Через сее письмечко кланяюся и вси члонки целую любезно…»
— Все «члонки» — дьявол!.. А что ж нет ее писем?.. Нет ли дальше?
И Ягужинский перелистывает лежащую перед ним кипу писем, ищет, но все видит один этот проклятый почерк да режущие глаз слова: «Мотренько», «коханая», «серденько», «личко беленькое», «ручки», «ножки»… Голова идет кругом!
Нет, надо читать все по порядку. Может, так и сыщется правда. И он скрепя сердце читает:
«Мое сердечко! Уже ты мене иссушила красным своим личком и своими обетницами. Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, щоб о всем размовилася з вашею милостью. Не стережися ей ни в чем, бо есть верная вашей милости и мине во всем. Прошу и вельце, за ножки вашу милость, мое серденько, облапивши, прошу не откладывай своей обетници…»
— За ножки облапивши… Медведь проклятый! Просит об чем-то: что-то она ему обещала…
Ягужинский с горем и бешенством падает головою на бумаги, которые капля по капле брызгали ядом на его молодое, в первый раз полюбившее сердце…
В эту минуту в дверях показалась колоссальная фигура царя, который, сильно нагнувшись, чтоб не стукнуться своею высоко посаженною головою об косяк низкой двери, теперь выпрямился во весь свой исполинский рост и с удивлением глядел на лежащую на кипе бумаг чернокудрую голову юного царедворца. В глазах его мелькнул как будто гнев — так часто эта искра, не всегда, впрочем, гневная, светилась в пронизывающем взоре, — тогда как губы передернулись улыбкой.
— Что, Павел, уснул над делами? — сказал он, делая шаг вперед.
Ягужинский вскочил как ужаленный. Бледное лицо его залилось румянцем.
— Я не сплю, государь! — сказал он быстро, глядя в глаза царя. — Я задумался над этими письмами.
— Над какими это? — и царь подошел к столу.
— В деле по доносу на гетмана… Я еще не все, государь, сии письма прочел и не нахожу подписи, чьи они быть должны.
Царь взглянул на письма.
— А! Рука гетмана… Тебе она не ведома поди: ты недавно у дел… Сии письма писаны — я знаю о том — писаны им Кочубеевой дочери… Все прочел со вниманием?
— Не все еще, государь, читаю только.
— Улик не сыскать поди?.. Намеков каких?..
— Улики есть, государь! — отвечал Ягужинский смущенно и думая о чем-то: он знал теперь, кто его злейший враг, кто отнял у него самое дорогое в жизни; он вспомнил теперь и выражение лица Мазепы, когда в саду Диканьки он ехидно смеялся: «У вас-де не до жарт…»
— Как? Улики, говоришь? — встрепенулся царь, и лицо его разом сделалось страшно, похоже на то, как тогда, давно когда-то, — Павлуша был еще маленьким тогда, четырнадцатилетним мальчиком и жил у Головкина, — когда в Преображенском рубили головы стрельцам. Ягужинский растерялся.
— Улики! Покажи!.. Так ли ты понял?
— Да вот, ваше величество, и из сего письма явствует, — указывал Ягужинский на лежавшее сверху письмо, краснея и запинаясь.
«Мое сердечне коханье! Прошу и вельце прошу, рачь зо мною обачитися для устной розмовы. Коли мене любишь, не забувай же; коли не любишь — не споминай же! Спомни свои слова, же любить обещала, на що ж мине и рученьку беленькую дала. И повторе и постокротне прошу, назначи хочь на одну минуту, коли маемо з тобою видетися для общого добра нашого, на которое сама ж прежде сего соизволила есь была. А ним тое будет, пришли намисто з шии своей, прошу…»
Кончив читать, царь вопросительно посмотрел на Ягужинского, который стоял как вкопанный.
— Тут ничего не нахожу я, — говорил царь, — простая любовная цидула…
— Он прямо признается ей в своей любви, государь, — бормотал Ягужинский, — сие ясно…
— Что ж! Любовь — не измена отечеству… И я люблю, и ты, может, любишь, — улыбаясь уже говорил царь. — Где ж тут измена?
Читать дальше