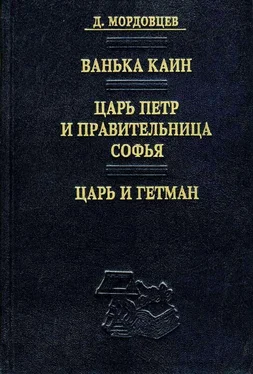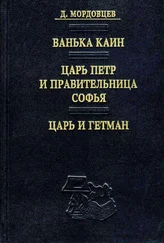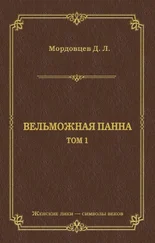— Бывал я на Москве и при царевне Софей Алексевне с дьяком сибирского приказу Семишкуровым, и оную царевну зрел — в ходах шла, — продолжал словоохотливый подьячий, — красавица из себя! Лицом бела, станом полна, аки крупитчата, матушка, и глаза с поволокой… И бывывал я, государи мои, на Москве и раней того, блаженныя памяти при царе Алексий Михайловиче всея Руси: в ту пору еще вашего гетмана Демка Игнатенкова Многогрешнова к нам, в Сибирь, провожали, народу на Москве оного яко изменника показывали, Охотным рядом водили, и Охотный ряд на его плевал, и «гетманишкой», и всякими скверными и неподобными словами ругал. А у нас здесь не то — у нас рай…
Так проболтал подьячий всю дорогу, вплоть до воеводской канцелярии.
Войдя в канцелярию, Палий остановился: он поражен был тем, что увидел; голова его затряслась, все тело его дрожало, и он, казалось, готов был упасть…
— Кого я вижу, Боже всесильный! — с ужасом проговорил он. — Ты ли это, Ивасю, друже мой и искренний!
— Я — Божою милостию Иоанн Самуйлович, Малороссии обеих сторон Днепра и Запорогов великий гетьман, — отвечал тот важно, гордо поднимая голову.
Палий со слезами бросился обнимать его, бормоча: «Боже праведный! Боже! Ивасю мий!..»
Странный вид представляла та неведомая личность, которая назвала себя гетманом Самойловичем и которая так поразила Палия.
Это был очень ветхий, дряхлый, согнувшийся старик, хотя широкие плечи и кости, обтянутые желтой, испаленной солнцем кожею, обнаруживали, что это останки чего-то крепкого, коренастого, некогда мускулистого и мужественного. Высокий лоб, наполовину закрытый космами седых спутавшихся волос; серые с каким-то блуждающим огнем глаза, смотревшие из-под нависших, как у старой собаки, седых бровей; седые усы, длиннее, чем такая же седая борода, белыми жгутами спадавшие на грудь, прикрытую рубищем; мертвенно худое лицо, оживленное быстрыми, гордыми, какими-то повелительными глазами, — все это вместе с лохмотьями и огромным чекмарем в правой руке невольно поражало.
При виде сцены, последовавшей за входом Палия, изумление приковало к месту и косого подьячего, который стоял у порога, растопырив руки и пальцы и не зная на чем остановить свои бродячие глаза, и часового, стоявшего у дверей с старинною ржавою до коричневости алебардою, и приземистого с двойным подбородком и двойным животом на широко расставленных ногах воеводского товарища, вышедшего из другой двери и остановившегося с разинутым ртом… Тут же стояла Палииха и крестилась…
— Иван Самуйлович! Что с тобою приключилося? Ты живый еще, дяковати Бога! — говорил Палий, протягивая руки. — Обнимемся, друже.
Странный старик продолжал сидеть, держа чекмарь в правой руке.
— Обнимемося, обнимемося, Семене, — сказал он, наконец, спокойным голосом. — Подержи булаву! — обратился он повелительно к часовому, протягивая чекмарь: — Се есть клейнот войсковый.
Часовой повиновался, изумленно поглядывая то на воеводского товарища, то на косого подьячего.
— Теперь обними мене, Семене… Ты давно с Запорогов?.. Что мои козаки?.. Повертаются из Крыму? Где обретается ныне с войском московским боярин князь Василий Васильевич Голицын?.. Какие указы, слышно, получены от великих государей Иоанна и Петра Алексеевичей и правительницы царевны Софии Алексеевны? — спрашивал странный старик, обняв Палия и вновь принимая чекмарь из рук часового.
Палий понял, что пред ним только тень его школьного товарища и друга, впоследствии славного гетмана Ивана Самойловича, — тень, живущая памятью прошлого, слепая и глухая ко всему, что теперь ее окружало… Счастливое безумие! Завидно несчастному это безумие — безумие, когда память и потерянный рассудок застыли на картинах счастливого прошлого, на воспоминаниях золотой поры молодости и с ней — могущества и славы… И в уме Палия горько прозвучали слова, за несколько часов до этого прочитанные ему женой в рукописной тетрадке «летописцев козацких», в которых говорится о превратностях судьбы бывшего гетмана Самойловича: «И за тую гордость и пыху скаран от Господа зостал, же перше от чести великой отдален и як який злочинца з бесчестием на Москву голо проважен, а напотом маетности и скарбы, которые многие были, усе отобрано, в которых место великое убожество осталося, вместо роскоши — срогая неволя, вместо карет дорогих и возников — простой возок, тележка московская с поводником, вместо слуг нарядных — сторожа стрельцов, вместо музыки позитивов — плач щоденный и нарекания на свое глупство пыхи, вместо усех роскошей панских — вечная неволя…»
Читать дальше