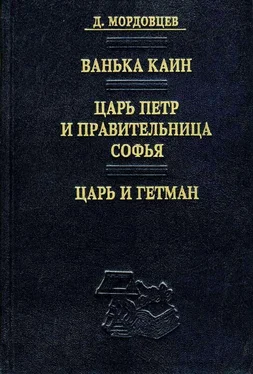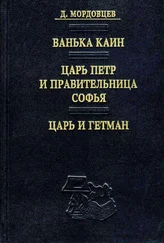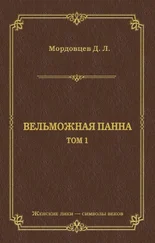Да, Павлуша Ягужинский рано начал думать. Еще там, на далекой, теплой родине, которая вспоминается ему как сонная греза, он уже начал задумываться. Чем-то сиротливым, чужим рос он среди родной природы, которая была ему более близка, более отзывчива, чем люди. Эти гордые, надутые маленькие польские панки, его сверстники, чуждались его, как неродовитого шляхтича, у которого не было ни холопов, ни быдла, ни грунту, ни палаца, ни богатых маентков, хоть его, Павликов, татко был такой же благородный, как и те надутые паны, но только не был ясновельможным паном, а учителем и музыкантом. И эти черномазые хохлята, отцы и матери которых работали на панов, как быдло, тоже избегали Павлуши Ягужинского… «Жидовиня», «лядский недовирок», «перекинчик», «собача вира», «свиняче ухо» — вот что он слышал среди этих чумазых хохлят и недоумевал, за что они его не любят… «Жид», «жид» … нет, не жид, потому что и жиденята бегают от него, как от чужого…
Вот что помнится ему из далекого детства… Еще помнится ему его отец, вечно грустный и задумчивый, сидящий над какими-то старинными книгами или в тихий летний вечер играющий на скрипке… Что за плачущие звуки лились тогда из-под горького смычка татки! Слушает, бывало, маленький Павлик эти всхлипывания смычка, слушает — и у самого польются слезы неведомо отчего… И становится маленькому Павлику жаль всего, на что он ни взглянет, хочется ему обнять все плачущее, утешить…
Татко говорил потом, что когда они жили еще в Польше, за Днепром, то Павлику пошел только пятый год… А он помнит эти зеленые иглы — тополи высокие, что вели к панскому палацу…
Потом он помнит себя уже в Москве. Помнит, как с татком ходил он в немецкую кирку, где татко тоже играл, но уже не на скрипке, а на органе. На скрипке он продолжал играть только дома, да и то осторожно, потому что нередко слышал, как москвичи говорили: «Вон немецкий пес воет — себе на похороны, на свою голову…» А московские мальчишки дразнили Павлика «нехристем» и нередко бросали в него каменьем. За что?.. Павлик и об этом часто думал. Но чаще и чаще до слуха Павлика начинают долетать слова: «Какое красивое чертово отродье», «какой хорошенький жиденок», «немчура, немчура — а поди ты, зело леповиден бесенок»…
Павлик учится читать, писать, чертить, рисовать… Татко его так много знает и сам учит Павлика…
И Павлик все растет, вытягивается, хорошо уже говорит по-московски, попривык к Москве…
А в Москве так страшно становится, такие зловещие слухи ходят… Говорят, что стрельцы всех немцев, всех нехристей перебить хотят… А там какие-то смуты в Кремле — то царя хотят убить, то царевну Софью заточить… Стоном стонет Москва — страшно кругом…
А эти ужасные казни стрельцов… Едут на телегах с зажженными свечами в руках, а за ними бегут стрельчихи, да воют, душу разрывают — воют… Какая страшная Москва!
— Что, Павлуша, задумался? По Москве, чаю, скучаешь? — говорит царь, ласково глядя на юношу.
Павлуша невольно вздрогнул. Он, действительно, думал о Москве, только страшной, кровавой, стрелецкой.
— А? Заскучал, поди, по Москве?
— Нету, государь, не скучаю, — отвечал юноша, к которому разом воротилось его привычное самообладание.
— То-то! Со мной скучать некогда.
— Некогда, государь, да и неохота.
— Правда. Скучают только дармоеды да лежебоки. А мы не лежим, — отрывисто говорил царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.
Юноша молчал. Слова царя так и обдали его холодной действительностью… Царь был в духе.
— А что, хотел бы ты тут жить? — снова спросил он своего юного любимца, лукаво улыбаясь.
— Где государь поволит жить, там и я.
— Так… А может быть, Бог и доведет до благополучного конца, — сказал царь в раздумье.
Это сами собой сказывались его заветные думы, его мечтания.
А флотилия все скользит неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, неприветливой реки. Тихо кругом. Ни говору не слышно, ни смеху, ни песен. Да и как петь, когда всякий час флотилия может наткнуться на шведские корабли, на замаскированные редуты, на засады?
Глаза царя зорко следят за всей флотилией. Ничьим другим глазам он не верит — верит он только своим глазам. Он сам хочет все видеть, все знать… Были только одни глаза, которым он доверял, как своим собственным, — это бойкие, живые глаза Павлуши Ягужинского.
— Это мое око, — часто говорил Петр, указывая на Павлушу, — коли Павел увидит что, то истина дойдет до меня такою же истиною, как ежели бы я сам ее видел.
Читать дальше