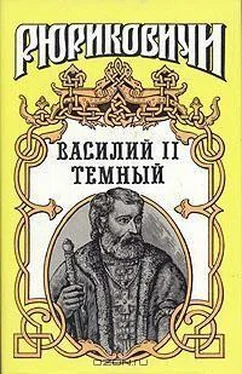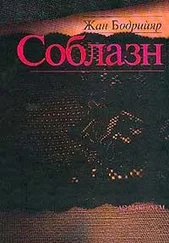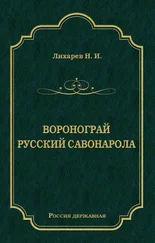— Знамо, лучше. Я найду, где остановиться. Грамотка твоя просто на всякий случай, Если кто спросит, чего, мол, приехал.
— Ладно. Собирайся. Лети мухой. Скоро, да тихо. Как исполнишь, сейчас меня извести самолично.
— Не замедлю, княгиня. Какой толк мне там сидеть, если исполню…
Через три дня, возвращаясь с Иваном от ранней обедни, услышал Василий Васильевич возле княжеского дворца свару: плачущий женский голос о чём-то упрашивал, мужские голоса грубо отгоняли женщину:
— Что они, сынок? Кто здесь?
— Да помнишь… тетька прошлый год с тобой на Сорочке в саду говорила? Вот она ехать просится с дьяком Бородатым до Новгорода, а он не хочет.
— Великий князь, яви милость, прикажи довезти меня, надоба смертная мне!
Пальцы Мадины знакомо цепко ухватили его за локоть. Духовитая баба, телом молодым, тугим от неё пахнет памятно, рубахой стираной, солнцем. Сжала руку, как бывало, сладко, шепнула второпях:
— К Шемяке хочу. Сказывали, там он. Давно случая жду, соскучилась! — И смешок мокренький кинула, грязь.
— Степан? — позвал Василий Васильевич, сам себе противный.
— Я здесь, княже.
— Аль в Новгород едешь?
— Да, есть дело невеликое к Юрию Патрикиевичу. Матушка твоя послание шлёт: болею, мол, и протчее.
— А-а… Ну, возьми бабу-то!
— Да на кой она мне, мурза [142] Мурза — замарашка, чумичка.
улошная?
— Да от скуки…
— Разве чтоб без визгу уехать поскорее?… Садись, мотыра [143] Мотыра — егоза, юла, непоседа, неугомонный человек.
.
— Прощай, князь! — голос Мадины. Он не ответил.
— Ишь, лытайка, мышьи глазки, — сказал Иван.
5
Близился конец новгородской вольности, притязания Москвы становились всё настойчивее и убедительнее, тем большую ненависть это вызывало у новгородцев, потому-то крамола мятежного князя Шемяки находила у вече поддержку, и владыка Евфимий ничего не мог с этим поделать, хотя Собор русских святителей отлучил Шемяку от Церкви.
Архиепископ Евфимий до того, как его посвятил в этот сан погибший на костре митрополит Герасим, был избран во владыки по новгородскому обычаю, на общей сходке граждан. Вече назвало несколько претендентов, и жребии с их именами были положены на престол Софийского собора. Слепец и с ним младенец в помощники снимали жребии по одному, и тот, что остался последним на престоле, заключал в себе имя новоизбранного владыки для управления епархией. Последним был жребий Евфимия, и он стал среди своего духовенства первым. Но он очень хорошо знал, что то же вече может его в любой час изгнать из палат владычных и выбрать другого, что своевольные граждане Гослодина Великого Новгорода не раз уж раньше проделывали. Вот почему отношения с Шемякой у архиепископа Евфимия оказались трудными, запутанными.
Приходилось Евфимию крутиться между вече и митрополитом Ионой, который вынужден был даже послать архиепископу такое послание:
«Ты говоришь, будто я называю в своей грамоте Дмитрия (Шемяку) моим сыном: посмотри внимательнее на грамоту; так ли там пишется? Сам он отлучил себя от христианства, сам положил на себя великую тягость церковную — неблагословение от всего великого Божия священства. Дал клятву не мыслить никакого зла против великого князя — и ей изменил. Ты видел эту грамоту. Как же мне после того можно именовать его своим сыном духовным? Итак, как прежде, так и теперь пишу к тебе, что я с прочими владыками почитаю князя Дмитрия неблагословенным и отлучённым от Церкви Божией. Ты пишешь ещё, что и прежде Святая София и Великий Новгород давали убежище у себя гонимым князьям русским и по возможности оказывали им честь; однако ж прежние митрополиты не посылали грамот с такой тяжестью».
Уж коли с такой тяжестью писал митрополит, то ясно, что не видел он иного выхода, как помочь великому князю в его распре с Шемякой. И сам Василий Васильевич продолжал досадовать и уж не чаял доброго для себя исхода. Если увещевания митрополита не помогли, не избежать новой рати. И уж начал подумывать об этом великий князь со своим соправителем Иваном, как дело решилось совсем по-другому.
В первую же ночь, как остановились на отдых по пути в Новгород, пришла Мадина к дьяку Бородатому. Сначала сквозь полог его щупала, всего изъелозила, потом попросилась томящим голосом:
— Пустишь, что ль, к себе? Комары меня едят, и мёрзну, ночь холодная.
Пустил, конечно. Разве в этаком откажешь?
Мадина тряслась на нём продолжительно, старалась очень, слюнку тёплую на грудь ему роняя. Ну и он её помесил с охотою.
Читать дальше