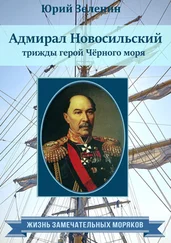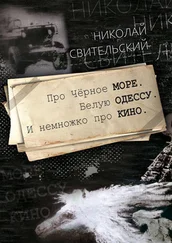Меир: “После девятого января приезжает один жандарм на белой лошади, говорит приказ Антонеску: “Больше не стрелять”. Было хорошее настроение. За хорошее слово люди дали ему мешок румынских денег. Но потом каждый день привозили по два-три человека, по десять человек. И после расстрела мы должны были убирать трупы, вещи в бараках - там умирали по пятьдесят-сто человек в день.
... После больших расстрелов румыны привозили хлеб и меняли на золото, на вещи. Я видел очередь, сотни людей.
Ещё у нас был староста, Лёня, еврей из Одессы - хуже полицаев. Он ходил с палкой будто бы хозяин. Средних лет. Он был с сыном.
Как-то в пятницу нас вызывают на площадь, там почти триста человек, только мужчины. Он выходит с палкой и говорит: “Слишком много рабочих, надо выгонять на расстрел”. И вот он в пятницу отбирает с нас сто человек, остальные все - на расстрел”.
Бася: “Было как-то, что пришёл полицей и Лёня ему сказал про одного с наших, что у него есть монеты. У него, правда, были американские монеты, и этот еврей Лёня его выдал, и его расстреляли”.
Меир: “Потом я работал в пекарне. Носил тридцать вёдер воды в день, два на коромысле и одно в руке. Из колодца. В гору... По утрам, бывало, едет пьяный полицей, когда издали видит меня с водой, он забавляется, играет - стреляет, а я бегу змейкой, чтоб не попал...
С водой было плохо. Евреи ходили с бутылкой за водой. А мальчики украинские камни бросали: попадёт - нет бутылки, воды нет...”
Кошке - игрушки, мышке - слёзки.
Уж сколько раз меня корили, что мои книги тяжелы. И правда: даже сейчас, когда пишу о жизнелюбивой Одессе. А надо, надо бы: разбавить текст, разрядить сюжет, за-
малевать, затуманить вид Меира Файнгольда, бросающего в костёр окровавленное тело невесты.
Анекдот неуместен, так хоть бы пейзаж, что ли, утешительный... Лёгким бы пером веер глянцевых картинок:
море - пенный расплеск прибоя по упругой кромке пляжа, волна за волной сцеживаются сквозь песок, оставляя на нём, тускнеющем, орденские блестки медуз...
небо - безмерный свет, весёлый пыл, или залихватский дождь, или ватный липкий безобидный снег...
город - скверы и улицы, прямые, равномерно простроченные перекрёстками; улыбчивые говорливые жители; тротуары с могучими акациями в два ряда, между которыми дорожка из серо-голубоватых квадратных плит, до скользкости оглаженных миллионами шагов; летними вечерами под деревьями надсаживаются синим гудом примусы на табуретках, вынесенных из квартир, в чёрном аду сковород шипят куски камбалы, возле примусов на таких же табуретках высятся хозяйки, монументальные колени разведя, мощные груди облив клеёнчатыми фартуками - они творят ужин под распевный свой переклик, он колышет улицу, тесную от запаха керосина и рыбы...
Это Одесса, стряхнувшая оккупацию, преодолевшая послевоенные недостачи.
Ожил город. Прибывало товаров на Привозе и в магазинах, отменялись продуктовые карточки, укорачивались очереди, на толкучке меняли-продавали кто что от мебели до патефонных самоделок - рентгеновских плёнок, где поверх скелетных подробностей процарапаны были круги звуковых дорожек с запретными эмигрантскими романсами. Взалкал народ и зрелищ, потянулся в кинозалы и театры, а бойчей того на велотрек и футбольные трибуны - вот где фонтанировали страсти. Шимек (он после эвакуации жадно дышал Одессой) однажды на стадионе оказался вблизи бешеного зрителя, вокруг него места пустовали, потому что он в ярости и восторге от игры метался по скамейке, швырял истрёпанный портфель, колотил себя по ляжкам, хватался за голову, выдирал вокруг лысины остатки волос; и слюна ураганом окрест. С годами он стал знаменитым: “О! Гроссман!” Главнейший в городе “фанат”, он первым придумал диковину: сопровождать команду на выездные матчи; имя его уважительно выкрикивали в толпе болельщиков, вечно галдевших на Соборной площади. Шимек и годы спустя после детского своего восхищения почувствовал себя польщённым, когда ему случилось пожать пухлую руку Гроссмана; их познакомил Абин старый друг Пиня - в одесском футболе свой человек.
Пиня - мальчик с Молдаванки, родины бабелевских весёлых налетчиков, родины Багрицкого с его “ Горбаты, узловаты и дики, В меня кидают ржавые евреи Обросшие щетиной кулаки. Дверь! Настежь дверь!.. Я покидаю старую кровать: - Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!”
И грянула РЕВОЛЮЦИЯ. И Пиня подался туда, где бугрился мускул: немножко в бандиты, немножко в большевики, немножко к лихим евреям из самообороны от погромщиков - сочетание называлось приманчиво-грозно: ЧК!
Читать дальше