Старик коротко засмеялся. Мне показалось, что искалеченной рукой, рукой усталой, пережившей больше, чем другая, отмахивался от чего-то он во тьме: от слов несказанных, от чащ луканских, воскресших в памяти, неузнаваемых, от предсмертного хрипа царя, его улыбки, напоследок обращенной к другу, — но, может, то был бред, и царь принимал его за другого. Мы осушали чаши раз за разом, не утоляя жажды. И вот, словно из имплювия, в котором дрожали, отражаясь, звезды, или, может, из темного квадрата неба над ним, где они сверкали столь же ярко, — иль нет, из старческого рта — вдруг снова донесся голос: «Потом он умер. Продолжение известно. Все знают, что он повелел и как был похоронен. Река текла чрез те края, густая, черная, с гниющими стволами по берегам, Бузент ее названье. Три дня кочующая Скифия, скорбя, сражаясь с тучей алчных комаров, лопатами, мечами и щитами канал неистово копала, чтоб реку отвести; все перепутав языки, до чресел увязая в иле, лихие воины рогатыми шлемами сгребали землю и дубы рубили, и гимны пели в память о царе, что спал последним сном, уставив в небо лик. Эту борющуюся с илом армию уж никогда не поведет за собою еле слышный напев, и самый главный подвиг она свершала в тот момент. Когда, бурля, поток по новому рванулся руслу, освободив речное дно, где на безводье дохли карпы и корни ив впервые дневной узрели свет, вся Скифия, рыдая и стеная, на дно спустилася: так воины германцев, восстав из мертвых после гибели в бою, в свои родные возвращаются болота. И скифы вырыли на дне огромную могилу и, положив в нее военные трофеи, награбленное римское добро, изваянные образы богов, предметы обихода, когда-то дорогие карфагенянам, грекам, сабинянам, бросили вослед им священный лабарум — знамя императора Константина, принесшее Риму семивековое могущество, а сверху опустили тело великого царя, как если б это был мешок, набитый золотом и мехом; оно плавно погрузилось в зыбь вверх животом и вскоре исчезло под скопищем разбуженных карпов. И тогда голоса, поющие псалмы, зазвучали громче, точно шли на последний приступ, и кто мечами, кто голыми руками, скифы стали ломать недавно возведенную плотину, и вся скопившаяся вода с ревом устремилась в привычное русло, погребая тело скифского вождя, поправшего ногами камни Рима. На этом скорбном берегу я пел в последний раз».
Внезапно я странные услышал звуки: надтреснутый, плаксивый голос старика без всякой лиры затянул чуть слышно песнь, похожую скорей на бормотанье. Он пел по-гречески; я узнавал слова Улисса, вопрошавшего Эреба, который столь же черен, как Бузент, и охраняет сон множества царей, великих и болтливых: чтоб их привлечь, Улисс овец зарезал, и пленники Эреба собрались на пир, по-стариковски жадно пуская слюни и черную лакая кровь, и повели рассказ о злоключениях своих. Вот, значит, какие языческие строфы пел он тогда в Лукании, оплакивая христианского царя, обретшего покой на дне реки, владевшего оттуда миром и пребывавшего нигде, как и подобает Богу-Отцу. Хотя я изрядно выпил и был немного не в себе — но тот ночной голос звучал явственней самой яви, — мне показалось, что он фальшивил. Он стал петь о могуществе Агамемнона; никто про него не знает, вела ли его на штурм Трои какая-нибудь песенка, потому что он и сам давным-давно превратился в песню: и восстала могучая тень, и, насытившись черной кровью, принялась стенать и плакать, вопрошая, где его сын; и отвечал ему Улисс: «Зачем терзаешь, Атрид, меня вопросами? Не могу я сказать, жив ли он, умер ли. Что толку бросать слова на ветер?» Голос певца иссяк. Он пел для меня в тот вечер, как пел когда-то для упокоившегося на дне речном царя. Теперь он тихо плакал. Мне захотелось его обнять, прижать к груди. Я наполнил его чашу вином и неловким движением протянул ему; его пальцы коснулись моих, принимая чашу; они дрожали; он выпил вино громко, большими трудными глотками, как пьют старики и умирающие.
Наконец старик поднялся и, сделав несколько шагов, склонился над имлювием; он долго всматривался в тень свою, едва различимую во тьме, и то лишь потому, что там, куда она упала, не видно было звезд. Потом сказал: «Мне кажется, я с каждым днем все больше похожу на Алариха; должно быть, это заблуждение старческого моего рассудка: в левантийской физиономии, которую я вижу в зеркале, унылой и смиренной, нет ничего общего с нетерпеливым, полнокровным, опаленным солнцем лицом того, другого. Агония, быть может, придаст моим чертам запальчивый румянец, а смерть холодная покроет чернотою кожу; я превращусь в Алариха, когда меня уже не будет. Эта иллюзия дает мне силы жить: Сын никогда не будет равным Отцу; оба спешат вослед за мелодией, которой им не нагнать, оба спешат за Духом. А Дух… Отец отринул меня от лица своего, а сам теперь ест грязь под двадцатью саженями воды; он не распял меня; он бросил меня на этом острове, где я уже не пою, а просто ожидаю Духа, окончательную смерть, глядя на всегда одинаковое море, утомительное, как время, как полет птиц и как бряцанье оружия; море, в котором от Вечности не более, чем во всем остальном».
Читать дальше






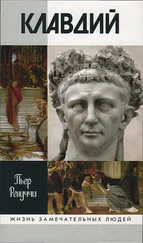
![Сергей Васильев - Император из стали - Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/438748/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st-thumb.webp)




