И вдруг лазурные дали Эгейского моря затягивали туманы Балтики и вихри тайфунов Японского моря. Каперанг, сухой, стройный, подтянутый, словно стоял он не в тюремной камере после почти годичного заключения, а на боевом мостике крейсера, рассказывал о Цусимском сражении, в котором он участвовал, и о подвигах русских моряков в первую мировую и гражданскую войну.
— Японцы расстреливали нас с недосягаемых для наших пушек дистанций, — говорил каперанг. — А теперь… Теперь бы с ними встретиться! Моя новая пушка…
Он смолк, сморщился и потер острый костяной нос, будто собирался не то чихнуть, не то заплакать, и наконец медленно сказал набухшие болью и гневом грузные, трудные слова:
— Впрочем… моя пушка ржавеет в цехах Обуховского завода, а я… вот здесь…
Каждое утро мы, вопреки всем запретам, решеткам и надзирателям, как бы выходили из тюремного мира, сумеречного и мрачного, на солнце, под безоблачное небо, мы дышали воздухом свободы, а главное — мы снова встречались с честными несгибаемыми людьми, мы снова начинали верить в правду и справедливость.
Я считаю необходимым написать и о наших разговорах, вернее, о наших спорах в камере. Много было у нас чувств, мыслей, вопросов, а потому в разговорах и спорах звучало все то, что мучило нас, на что искали мы ответы.
Я не могу передать их со стенографической точностью, но мне запомнился их смысл, основная идея споров, отдельные выражения, а следовательно, и мысли отдельных людей. Мне помогут в этом мои записки. Я начал вести их в Тайшетском лагере.
Однажды ночью я проснулся на лагерном топчане и долго не мог снова заснуть. Лежал, слушая храп и стенания спящего барака, лежал и мысленно кричал кому-то равнодушному, тупо-безответному: «Кто же ты? Кто дал тебе бесчеловечное, неправедное право над нами? Но ты нас не согнешь, нет, шалишь! Батыевщина, опричнина, аракчеевщина, бенкендорфы и треповы не согнули русский хребет, а уж советский хребет тебе и подавно не по зубам будет!» В этот день наша бригада хоронила умерших от голода, цинги, непосильной работы лагерников. Мы хоронили их весь день в бесконечной траншее, вырытой грейдером. Не скорбела о них медь, не рыдали близкие, трубила лишь тайга, да плакала шепотом поземка. Мы клали их рядами, тесно плечом к плечу, забрасывали мерзлой мертвой землей и уминали землю трамбовками. Приказано было — чтобы и следа не осталось! И это было самое страшное — бить трамбовками в лежащих усопших друзей наших.
Я вскочил. Душа моя болела, как обожженная. Живет и сейчас во мне эта неутихающая боль. И я почувствовал, что обязан запомнить эти трагические годы, запомнить и рассказать о них.
Я начал вспоминать, но память обманчива. Прошлое уже затянуло ровной серой пеленой. Лишь кое-где на этом сером фоне выступало то чье-нибудь лицо, то прорывались чьи-нибудь слова, а иногда в неясном смутном свете появлялось какое-нибудь событие или случай. Я испугался и начал записывать с первого, рокового для меня дня 10 апреля 1937 года. И случилось чудо! Лишь только я начал записывать в хронологической последовательности, одно воспоминание вызвало десятки других, а полузабытое воскресало с необыкновенной яркостью. Ожили и все чувства тех дней: отчаяние, страх, ненависть, злоба. Но я избегал писать о своих чувствах, ибо без спокойствия не бывает объективности. Герцен очень хорошо сказал: «Без этого может быть искренность, но не может быть истины». Записи мои пять раз уничтожались — три раза их отбирал у меня лагерный надзор при «генеральном шмоне», поголовном обыске, а два раза я сам уничтожал листочки воспоминаний. Это было в первые годы войны, когда администрация до упора завинтила пресс лагерного режима, и за пустяковые проступки на наши несчастные головы обрушивались жестокие наказания. И все же я упрямо принимался снова и снова восстанавливать отобранное и уничтоженное. Это были уже воспоминания воспоминаний, и многое при этом потерялось безвозвратно. Однако я сумел вынести при освобождении наиболее ценные и важные записи, а на свободе стал уточнять и дополнять их. Мне очень помогла в этой работе жена, тоже бывшая заключенная лагерей, и завязавшаяся переписка с друзьями по лагерю. Записи о пережитом заполнили несколько тетрадей. Я озаглавил их «Материалы для книги, которая не будет напечатана». И все же четырнадцать лет я пополнял эти тетради.
Они и помогут мне написать всю правду, а правда теперь в чести на нашей земле.
Читать дальше
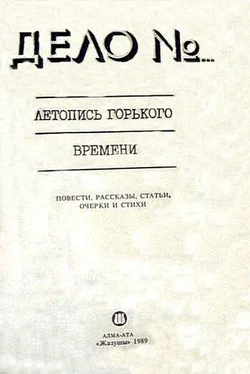

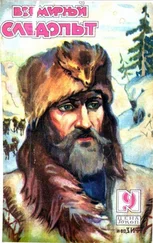






![Михаил Зуев-Ордынец - Бунт на борту [Рассказы разных лет]](/books/389798/mihail-zuev-thumb.webp)


