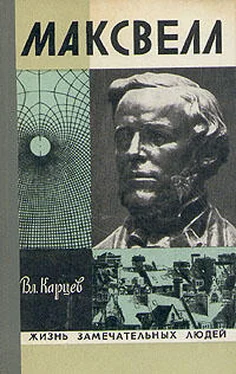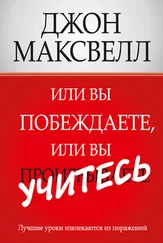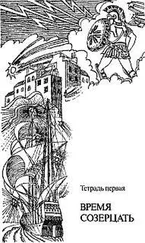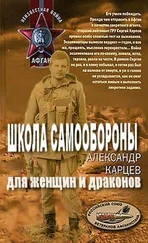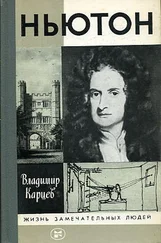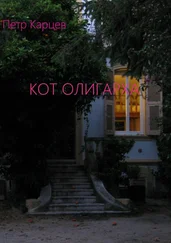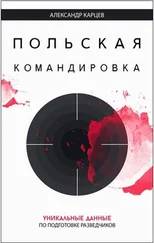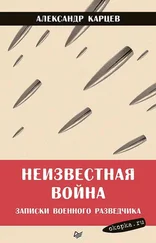В мае 1876 года Максвелл писал своему дяде и другу, брату покойной матери, Роберту Кею:
«Меня послали в Лондон для того, чтобы объяснить королеве, почему Отто фон Герике посвятил себя открытию «ничего», и показать ей два полушария, в которых он содержал это «ничего», и картины, изображающие 16 лошадей, которые не могли оторвать полушария друг от друга, и как через 200 лет В.Крукс подошел гораздо ближе к «ничего» и запечатал его в стеклянный шар для публичного обозрения. Ее Величество, однако, отпустила нас довольно легко и не доставила нам с «ничего» много хлопот — видимо, у нее была еще бездна тяжелой работы на конец дня...»
Можно вообразить, как на фоне уникальных приборов — научных реликвий, свидетелей прозрений гениев — стоит Джеймс Клерк Максвелл перед «маленькой дамой в сером» — королевой Викторией, живым символом процветающей викторианской Англии, перед ее сестрой, германской императрицей, перед собравшимися тут же вельможами и затерявшимися между ними виднейшими учеными Европы, как размышляет о том, что сказать ему сейчас, с этой внезапно представившейся трибуны, какие свои идеи обнародовать, подчеркнуть, во что заставить поверить эту пеструю толпу?
Сейчас они могут выслушать все, в эти отмеренные несколько минут, они будут делать понимающие глаза и кивать головами. Сейчас можно говорить все.
И Максвелл начинает говорить... о Гиббсе. О никому не известном Джозайя Уилларде Гиббсе из Йельского колледжа в Соединенных Штатах Америки, о котором и самому-то Максвеллу несколько лет назад было ничего не известно и могло бы остаться неизвестным и далее, если бы не одна его, Гиббса, своеобразная особенность.
Дело в том, что после выхода каждого очередного своего труда Гиббс, стройный тридцатисемилетний холостяк с короткой бородкой на скуластом лице, принимался за трудную работу. Справедливо полагая, что ни один серьезный европейский ученый не возьмет в руки, скажем, «Труды Коннектикутской Академии наук», где он печатался, Гиббс, положив перед собой список в 507 имен, начинал собственноручно отсылать всем известным ему ученым из двадцати стран оттиски своих трудов.
И не без умысла. Чтобы кто-нибудь начал читать его статьи и, более того, дочитал бы их до конца, потребовалось бы известное усилие, которое Гиббс и стимулировал столь искусно своим эпистолярным вниманием!
Гиббс в своих статьях не делал никаких предварительных замечаний и текущих комментариев. Все манипуляции над формулами и понятиями проделывались им в собственном мозгу, и на долю читателя оставалось взирать на неизвестно откуда и каким путем полученные формулы, несущие глубокий физический смысл.
Настолько глубокий, что труды Гиббса поразили самого Максвелла. Более того, он безо всякого кокетства зимой 1873 года в письме к Тэту вдруг объявил, что наконец стал понимать термодинамику. В новых изданиях своей книги «Теория теплоты» он делает исправления и признает, что ранее излагал второе начало термодинамики неверно. Целую зиму мастерит Максвелл в Гленлейре модель гиббсовской термодинамической поверхности воды и потом демонстрирует ее королеве на выставке исторических научных инструментов.
Склад мышления Гиббса, его привязанности к диаграммам, графикам необычайно близки Максвеллу. У Гиббса он наконец понял то, чего не мог понять у Клаузиуса, — физический смысл энтропии, которая в толковании Гиббса была вполне измеримой величиной. Оказалось, что в течение чуть не двадцати лет вслед за Тэтом и Томсоном Максвелл, не понимая работ Клаузиуса, неверно толковал томсоновское второе начало через клаузиусовскую энтропию. И внутренне, вероятно, покраснел. Ну, Тэт, это понятно. Он ни в грош не ставит Клаузиуса из шовинистических соображений, никогда всерьез не читал его, но как мог он, Максвелл, не пробиться через всю эту немецкую словесную премудрость и не постичь правильного смысла энтропии? Может быть, потому, что энтропия — понятие трудно представимое, не поддающееся прямому моделированию, не то что легко измеримые работа, давление, объем, температура. Гиббс прибавил к этим физически ясным понятиям слово «энтропия».
Зримым следом увлечения Максвелла термодинамикой остались лишь его неопубликованные заметки по равновесию гетерогенных веществ и модели гиббсовских термодинамических поверхностей, которые были вылеплены Максвеллом и подарены Вильяму Томсону и Тэту и, конечно, Гиббсу.
Гиббс, как и сам Максвелл, был сдержан и немногословен, чужд тщеславия.
Читать дальше