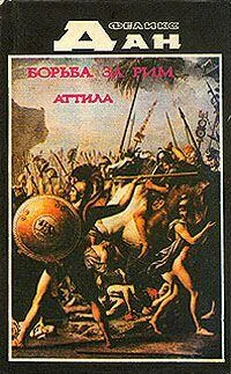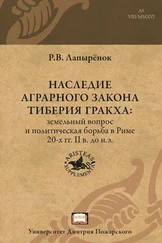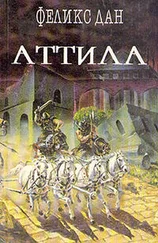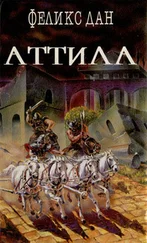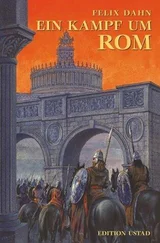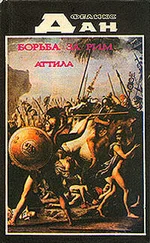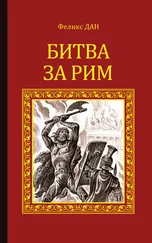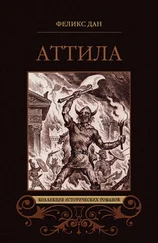— А, освободители отечества! — улыбаясь, приветствовал он их.
— Бесстыдный изменник! — вскричал в ответ Лициний, вынимая меч из ножен.
— Нет, подожди, пусть оправдается, если может, — прервал Сцевола своего горячего друга, удерживая его руки.
— Конечно, пусть оправдается. Невозможно, чтобы он отпал от дела святой церкви! — подтвердил Сильверий, физиономия которого выражала полное недоумение.
— Невозможно! — вскричал Лициний. — Да разве он не изменил нам, разве не привел народ к присяге новому королю, разве…
— Разве не запер триста знатнейших патрициев в сенате, точно триста мышей в мышеловке? — продолжал в его тоне Цетег.
— Да он еще смеется над нами! Неужели вы стерпите это? — задыхаясь от гнева, вскричал Лициний.
Даже Сцевола побледнел.
— Ну, а что бы вы сделали, если бы вам дали возможность действовать? — спокойно спросил Цетег.
— Как что? — ответил Лициний. — То, о чем мы, о чем ты же сам столько раз рассуждал с нами: как только получим весть о смерти Теодориха, тотчас перебить всех готов в городе, провозгласить республику…
— Ну, и что же дальше?
— Как что? Мы добились бы свободы!
— Вы навеки убили бы всякую надежду на свободу! — крикнул Цетег, меняя тон. — Вот смотрите и на коленях благодарите меня.
Он вынул из стола документ и подал его удивленным гостям.
— Да, — продолжал он, — читайте. Враг был предупрежден и подготовился. Не сделай я того, что сделал, — в эту минуту у северных ворот Рима стоял бы граф Витихис с десятью тысячами готов, завтра утром в устья Тибра вступил бы Тотила с флотом из Неаполя, а у восточных ворот стоял бы герцог Тулун с двадцатитысячным войском. Ну, а если бы хоть один волос упал с головы какого-либо гота, что было бы с Римом?
Все трое молчали, пристыженные.
Наконец Сильверий подошел к нему, раскрыв объятия.
— Ты спас всех нас, ты спас церковь, и государство! Я никогда не сомневался в тебе!
— А я сомневался, — с благородным чистосердечием произнес Лициний. — Прости, великий римлянин. Но с этой минуты это копье, которое должно было пронзить тебя сегодня, навеки в твоем распоряжении.
И с блестящими глазами он и Сцевола вышли из комнаты.
— Префект Рима, — сказал тогда Сильверий, — ты знаешь, я был честолюбив и стремился захватить в свои руки не только духовную власть, но я светскую. С этой минуты я отказываюсь от последней. Ты будешь вожаком, я повинуюсь тебе. Обещай только свободу римской церкви — свободное избрание папы.
— Конечно, конечно, — ответил Цетег.
Священник вышел с улыбкой на губах, но с тяжелым гнетом на сердце.
«Нет, — подумал Цетег, глядя вслед уходящим, — нет, не вам низвергнуть тирана, — вы сами в нем нуждаетесь!»
Этот день, этот час был решающим в жизни Цетега; почти помимо воли он был поставлен в такое положение, о котором даже никогда не думал, которое иногда представлялось его уму только в формах смутных, туманных мечтаний. Он увидел себя в эту минуту полным господином обстоятельств: обе главные партии — готская партия и враги его, заговорщики катакомб — были в его руках. И в груди его вдруг со страшной силой проснулась страсть, которую он уже более десяти лет считал угасшей, — страсть, потребность повелевать, быть первым, силой своего ума и энергии побеждать все противодействующие обстоятельства, подчинять всех людей. Этот давно уже ко всему равнодушный, холодный как лед, человек, почувствовал вдруг, что и для него еще может в жизни найтись цель, ради которой можно отдать все силы и даже жизнь, и эта цель — быть императором Западной империи, императором римского мира.
Несколько месяцев назад, когда Сильверий и Рустициана почти против его желания привлекли его к участию в заговоре, эта мысль, точно мечта, тень, пронеслась в уме его. Но тогда он только засмеялся над нею: он — император и восстановитель римского мирового государства! А почва Италии дрожит под ногами сотен тысяч готов, и на престоле в Равенне прочно сидит Теодорих, самый великий из королей варваров, слава которого наполнила весь мир. И если бы даже удалось сломить власть готов, то два государства — народ франков и Византии — тотчас протянули бы свои жадные руки за этой богатой добычей; два государства против одного человека! Потому что он действительно стоял одиноко среди своего народа. Он хорошо знал и глубоко презирал своих соотечественников, этих недостойных потомков великих предков.
Как смеялся он над грезами Лициния, Сцеволы и им подобных, которые хотели восстановить времена республики с такими людьми!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу