Вокруг стола стоят Гарин в офицерской форме цвета хаки и трое молодых китайцев в белых куртках. Пока я представляюсь, один из китайцев тихо говорит:
— Некоторым уж очень боязно испачкаться, взявшись за метлу…
— Много было таких, которые считали Ленина недостаточно революционным, — отвечает Гарин, резко обернувшись, но не снимая руки с моего плеча. Затем, обращаясь ко мне: — Моложе ты не стал… Из Гонконга? — И, даже не дождавшись ответа: — С Менье ты виделся, знаю. Бумаги при тебе?
Бумаги у меня в кармане. Отдаю их ему. В то же мгновение входит часовой с пузатым конвертом, который Гарин передаёт одному из китайцев. Тот докладывает:
— Отчёт отделения в Куала-Лумпур. Обращает наше внимание на то, как трудно в настоящее время собирать средства.
— А во французском Индокитае? — спрашивает меня Гарин.
— Я привёз вам шесть тысяч долларов, собранных Жераром. Он говорит, что всё идёт хорошо.
— Отлично. Идём.
Он берёт меня под руку, забирает свою каску, и мы выходим.
— Пойдём к Бородину, это совсем близко.
Мы идём вдоль бульвара с его тротуарами, заросшими красноватой травой. Безлюдно и тихо. Солнце вонзается в белую пыль столь яркими лучами, что хочется зажмурить глаза. Гарин наскоро расспрашивает меня о путешествии, затем на ходу читает отчёт Менье, сгибая страницы, чтобы не отсвечивало. Он почти не постарел, но на каждой черточке его лица под зелёной подкладкой каски лежит отпечаток болезни: мешки под глазами до середины щёк, ещё более утончившийся нос, морщины, идущие от крыльев носа к уголкам рта, — уже не глубокие чёткие прорези, как в прежние времена, а широкие впадины, почти складки; во всех мускулах лица есть что-то лихорадочно-вялое и настолько усталое, что, когда он начинает оживляться, они напрягаются, совершенно меняя выражение его лица. Он наклонил голову вперёд, устремив взгляд в бумаги, а вокруг, как всегда в этот час, воздух дрожит в густой зелёной листве, из которой выступают пыльные пальмовые листья. Я хотел было поговорить с ним о его здоровье, но он уже закончил чтение и сказал, дотрагиваясь до подбородка листами доклада, которые он свернул в трубочку:
— Там тоже дела портятся. Симпатизирующие нам начинают отчаиваться, а примазавшиеся уползают в свою нору. А здесь приходится опираться на молодых идиотов, которые путают революцию с третьим актом китайского театра двусмысленностей… Невозможно увеличить выплаты забастовщикам, невозможно! Только победой можно вылечить заболевшую забастовку.
— А Менье что предлагает?
— Он говорит, что общий настрой пока ещё хорош: отступаются слабые, потому что Англия им угрожает при помощи тайной полиции. С другой стороны, пишет вот что: «Наши здешние китайские комитеты предлагают быстро похитить двести-триста ребятишек из семей преступников или пособников. Мы бы их переправили сюда, обращались бы с ними хорошо, но вернули бы только родителям, приехавшим за ними. Совершенно очевидно, что им не удалось бы быстро вернуться в Гонконг…» «Сейчас как раз сезон отпусков, — добавляет он. — А другие задумались бы». С такими предложениями мы вперёд не продвинемся…
Подходим к дому. Похож на гаринский, но жёлтого цвета. Мы уже собираемся войти, но Гарин, остановившись, отдаёт воинскую честь маленькому старичку-китайцу, который выходит. Тот протягивает к нам руку, и мы подходим.
— Господин Гарин, — медленно, слабым голосом говорит он по-французски, — я пришёл сюда, имея намерение встретиться с вами. Я полагаю, что наша встреча была бы полезной. Когда я смогу вас увидеть?
— Господин Чень Дай, когда вам будет угодно. Я приду к вам сегод…
— Нет-нет, — отвечает он, помахивая ладонью так, как если бы желал успокоить Гарина, — я к вам приду, приду. В пять часов, вас устраивает?
— Разумеется, буду вас ждать.
Услышав это имя, я стал внимательно его разглядывать.
Как и у многих старых образованных китайцев, его лицо более всего напоминает лицо покойника. Причиной тому — резко выступающие скулы: из-за них, особенно на расстоянии, видны только глубокие, тёмные провалы глазных орбит и зубы, а носа почти нет. Вблизи его удлинённые глаза выглядят живыми; улыбка подчёркивает изысканную любезность его речи, но не тона; благодаря всему этому он кажется не таким уродливым, да и само уродство предстаёт в ином свете. Он прячет руки в рукава, как это делают священники, и при разговоре подаётся плечами вперёд. На секунду я вспомнил о Клейне: тот также изъясняется, помогая себе телом. При сравнении этот Чень Дай показался мне ещё более тонким, хрупким и старым. На нём военные брюки и китель с накрахмаленным воротничком, из белого полотна, как почти у всех вождей гоминьдана. Его ожидает коляска рикши — коляска у него особенная, совершенно чёрная; он приближается к ней мелкими шажками. Рикша везёт коляску, его бег нетороплив и полон достоинства, а сидящий в ней Чень Дай важно покачивает головой, как бы взвешивая те доводы, которые он молча предлагает самому себе.
Читать дальше

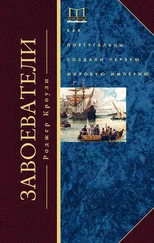




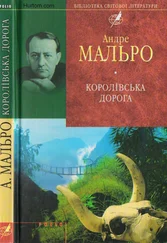



![Антоний Фердинанд Оссендовский - Мирные завоеватели [Избранные сочинения. Том IV]](/books/407725/antonij-ferdinand-ossendovskij-mirnye-zavoevateli-thumb.webp)
