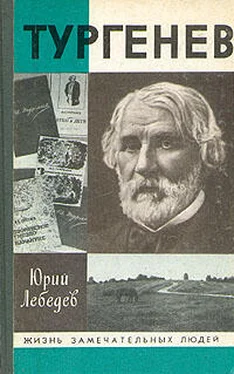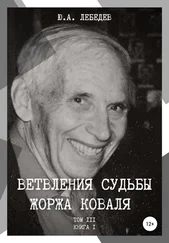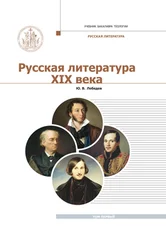Мать не только разрешила продолжать обучение в Берлинском университете, но и снабдила средствами на путешествие по Италии...
В Риме Тургенев встретился со Станкевичем и по-настоящему сблизился с ним. 19 марта 1840 года Станкевич писал Фроловым: «Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую плел у Вас. Право, он умен!»
Тургенев делился с другом своими впечатлениями, которые он вынес из России, рассказывал о пожаре спасского дома, о противоречивых чувствах, которые он испытывал к родовому гнезду. Станкевич понимающе кивал головой, но в ответ на одну резкую фразу Тургенева по поводу России и российской дворянской семьи мягко, но внушительно сказал слова, которые Тургенев запомнил надолго:
«Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути... От этого избави Вас Боже, Тургенев! Впрочем, Вы слишком знаете цену себе, чтоб допустить возможность такого существования».
Они ходили вместе по развалинам Колизея, темно-синее небо просвечивало во все его окна; ступени, на которых сидели прежде зрители, обрушились; кустарник рос на месте этих ступеней и придавал общей картине завершенный, гармонический вид. Они спускались в катакомбы — место жительства, службы и погребения первых христиан. Храм святого Петра превзошел их ожидания: громада, которая велика, как площадь, но настолько стройная и гармоничная, что взгляд не отвлекается на детали, а схватывает её всю сразу, целиком. Станкевич попутно развивал свои взгляды на сущность искусства, на тайны художественной завершенности совершенного в эстетическом отношении произведения. Его комментарии не мешали восприятию увиденного, а, напротив, раскрывали перед спутником внутренние красоты и смысл искусства в самой сокровенной его глубине.
Долго стояли они перед «Моисеем» Микеланджело. «Что за художник! — воскликнул Станкевич. — У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукой! Обратите внимание, Тургенев, на лицо Моисея. Оно далеко от классического совершенства: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро. Какая свобода и в то же время отчетливость в исполнении. Но вот Гёте, посмотревший на творение Микеланджело, говорил, что не может таким сильным взглядом воспринимать природу. И правда, есть что-то уничижительное в этой гигантской силе. Микеланджело возвратился к Старому Завету, и его Моисей — служитель бога ревнивого, из божества в нем осталась сила».
По контрасту с «Моисеем» друзья рассматривали головку Гвидо Рени. «Тут одна душа без тела, музыка, — сказал Станкевич и смущенно прибавил, — но не забудьте, что я варвар в живописи».
В Ватикане Станкевич остановился перед статуей Аполлона Бельведерского. «Что после этого абстрактная сила Микеланджело? — говорил он. — Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах».
Станкевич относился к Тургеневу дружественно, однако не без покровительственного оттенка и временами «осаживал» его «довольно круто».
«Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились останки подземного богослужения христиан в первые века христианства», Тургенев воскликнул: «Это были слепые орудия провидения!» «Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий» в истории нет — да и нигде их нет».
В другой раз перед статуей святой Цецилии Тургенев продекламировал стихи Жуковского:
И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя, —
Станкевич сказал, что плохо тому, кто по привычке любуется прелестью, да еще в такие молодые годы.
Во всем существе его поражала окружающих редкая правдивость. Временами казалось, что он видит собеседника насквозь, высвечивает своим лучистым взглядом его сущность и прекрасно чувствует, где в нем правда и где ложь. Перед такой цельной личностью Тургенев терялся, чувствуя свои слабости. Но в этом чувстве не было ничего унижающего человеческое достоинство, потому что в правдивости Станкевича отсутствовали малейшие признаки самовлюбленности, внутреннего сознания своей избранности. Таким сделала его природа, и он носил свой дар легко и свободно, не сознавая, каким сокровищем обладает.
Читать дальше