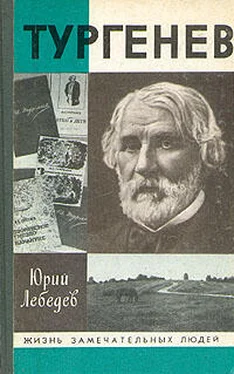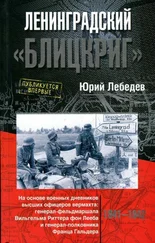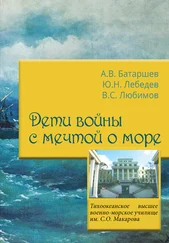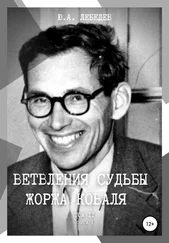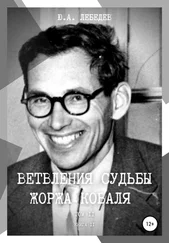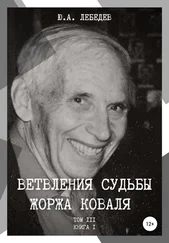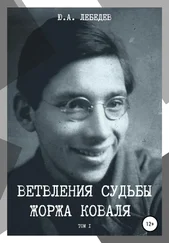В домашнем быту своем и в управлении имением Варвара Петровна подражала царям. Слугам давала она придворные звания: дворецкий назывался «министром двора» и даже носил определенную барыней фамилию «Бенкендорф», мальчик лет 14 с несколькими помощниками, занимавшийся получением писем и отправкой почтовых корреспонденции, назывался «министром почт». Подчиненные не имели права обращаться к Варваре Петровне по своей инициативе. Явившись на прием, они должны были стоять у притолоки и ждать обращения к ним госпожи. Порой ждать приходилось долго и уходить ни с чем.
Приезд почты сопровождался специально разработанным ритуалом. Раздавалось несколько ударов большого спасского колокола, висевшего на высоком столбе неподалеку от дома. Затем по коридорам пробегали почтальоны, звоня в маленькие колокольчики. А «министр почт», одетый по форме, преподносил на серебряном подносе газеты и письма госпоже. Во время этой церемонии играла музыка крепостного флейтиста. Если на одном из конвертов была траурная кайма или черная печать, звучала грустная музыка, чтобы предупредить Варвару Петровну о печальном содержании письма. Если же печати были красные, флейтист наигрывал веселую мелодию.
При спасском доме, в мезонине правого флигеля, находилась собственная господская контора. Каждый день по утрам Варвара Петровна приходила в контору, занимала место на «троне» и выслушивала донесение главного управляющего о выполнении господских приказов, а затем писари заносили в книгу новые. Тургенев посвятил этой стороне деятельности своей матушки специальный рассказ «Собственная господская контора»:
«Левой вынул из ящика своего стола голубую книжку с надписью на переплете: «Заметки барыни», — раскрыл ее и принялся читать:
— «Понедельник, 11-го июня.
Во-первых: дворовым я желаю сделать другое распоряжение; хочу из дворовых сделать колонистов ; а колонисты мои будут делать разные работы, домашние и прочие; построю им каменные флигеля; заведу фабрики, как швейные, так и кружевные, — ткацкую, белильню — и доведу, до того, чтобы Введенские фабрики были известны в России; а ненужных дворовых продам или отпущу по разным местам. Начальник моих колонистов — Куприян Семенов». — Левой остановился.
— Какая по этому сделана отметка? — спросила барыня.
— «Принято к соображению. А насчет Куприяна — исполнено».
Сумасбродные распоряжения и фантастические прожекты госпожи Тургеневой причиняли крепостному люду спасской усадьбы неисчислимые беды, калечили и коверкали человеческие судьбы. Варвара Петровна не допускала, например, чтобы ее служанки выходили замуж, произвольно изменяла их имена, преследовала и угнетала за каждую мелочь. Главная горничная ее Александра Семеновна вспоминала: «Два раза, батюшка, ссылала она меня на скотный двор в дальнюю деревню; один раз за то, что, подавая чай, не доглядела, как попала муха в чашку с чаем, а другой раз я не успела стереть пыль с рабочего столика».
При Спасском существовала своя «полиция» из отставных гвардейских солдат. К «полиции» Варвара Петровна прибегала всякий раз, когда требовалось применение силы. Суд и расправу госпожа чинила в особой комнате, прозванной ею «залом суда». В назначенные дни она являлась в это судилище с хлыстом в руках, садилась в кресло и творила приговоры, заставляя безотлагательно приводить в исполнение свои наказания. Часто по малейшему, пустячному поводу разрушались семьи, отнимались дети от матерей, люди ссылались в дальние деревни или отправлялись в солдаты.
Однажды жертвой господской несправедливости оказался добрый друг Ванички Тургенева Леонтий Серебряков... Уже сидя в телеге, обутый в лапти и старую холщовую рубаху, почитатель Ломоносова и Хераскова обратился к молодому барчуку с речью, которую Тургенев запомнил на всю жизнь и воспроизвел в повести «Пунин и Бабурин»: «Урок вам, молодой господин; помните нынышнее происшествие и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный... Смотрите, берегитесь: этак ведь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду... буду помнить, что обещаюсь... сделаю... непременно... непременно...»
Мимо постылого дома, мимо ненавистных строений с надписями «конторка села Спасского», «полиция села Спасского» бежал мальчик в самую глубь и глушь сада, в то заветное, укромное место, где они с Леонтием упивались музыкой российского стиха. А в ушах звучали наполненные конкретным, живым смыслом строки Державина:
Читать дальше