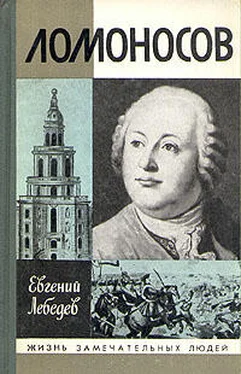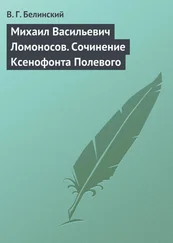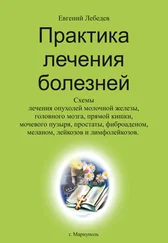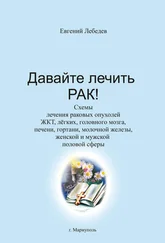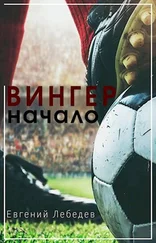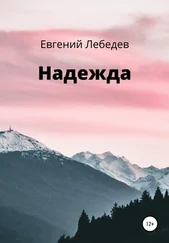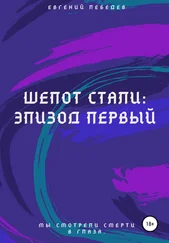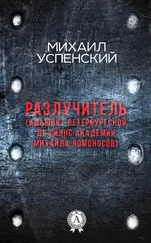Но какой страшной ценой для молодой Петербургской Академии обернулось это подлое шумахерово выживание!
Одну из главных академических задач, как мы помним, Петр I видел в подготовке национальных научных кадров. В первые десять лет господства Шумахера Академические университет и гимназия практически бездействовали. Ни одного русского ученика не было выпущено из гимназии в студенты университета. Ни одного русского студента не было произведено в адъюнкты или переводчики. Из двенадцати учеников Славяно-греко-латинской академии, по «первому призыву» прибывших из Москвы в Петербург в декабре 1732 года, один только Степан Петрович Крашенинников (1713–1755) сумел пробиться к большой науке, став впоследствии профессором ботаники и натуральной истории, автором фундаментального труда «Описание земли Камчатки». Лишь отчасти смог реализовать свои способности другой выпускник Спасских школ Алексей Петрович Горланов (ум. 1759), автор труда о народных лекарствах Сибири. По возвращении из Камчатской экспедиции, в которой он участвовал вместе с Крашенинниковым и другими тремя товарищами по московской академии, Горланов до 1750 года был копиистом при историографе Миллере. Высшей точкой его академической карьеры стала должность учителя латинского языка в Академической гимназии, предоставленная ему впоследствии его бывшим соучеником по Москве Крашенинниковым.
Остальные десять московских учеников, как писал Ломоносов, либо «от худого присмотру все испортились», либо «быв несколько времени без призрения и учения, разопре-делены в подьячие и к ремесленным делам».
Среди русских сотрудников Академии выделялся еще Василий Евдокимович Адодуров (1709–1780), переводчик и математик, о котором с похвалой отзывался Д. Бернулли. В 1733 году Адодуров стал адъюнктом, в 1736 году ему будет поручено смотрение за московскими студентами, в числе которых находился и Ломоносов. Можно упомянуть здесь и академического переводчика Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–1769), о котором подробный разговор еще предстоит. Но все это были исключения из правила. Правилом же было господство иностранцев на «высшем уровне», если пользоваться терминологией нашего времени, и использование русских на вспомогательных работах в качестве копиистов, мастеровых, отчасти переводчиков.
Впрочем, и выдающимся ученым-иностранцам было трудно работать с Шумахером. Задуманная Петром I как средоточие отборных научных сил Европы Петербургская Академия в первые десять лет своего существования потеряла наиболее значительных ученых. Умер Николай Бернулли, уехали Герман и Бюльфингер. В 1733 году покинул Россию и Даниил Бернулли, от которого, когда он всерьез стал отстаивать свои истины и причинять академическому начальству не меньшее, чем Бюльфингер, беспокойство, отвернулся его недавний «покровитель» и «сочувственник» Шумахер. В 1737 году в Страсбурге (на родине Шумахера) увидит свет знаменитая «Гидродинамика» Бернулли, в предисловии к которой он выскажет слова благодарности ученому обществу, в стенах которого была выполнена большая часть работы по созданию этого капитального исследования, а также напомнит, какие высокие научные цели преследовались при учреждении русского храма муз: «Я охотно объявляю, что главнейшая часть этой работы обязана руководству, замыслам и поддержке со стороны Петербургской Академии наук. Повод для написания этой книги дало постановление Академии, в котором первых профессоров, собравшихся для ее создания, обязали и затем определенно побуждали, чтобы они писали рассуждения на какую-нибудь полезную и, насколько возможно, новую тему(подчеркнуто мною. — Е. Л. )... Настоящая моя работа преследует единственную цель: принести пользу Академии, все усилия которой направлены к тому, чтобы содействовать росту и общественной пользе благих наук».
В Петербурге еще оставались Леонард Эйлер, Жозеф-Никола Делиль, Гмелин. Но и они в течение следующего десятилетия, не в силах выносить околонаучную злобно-тщеславную, бесплодно-бюрократическую возню, производимую Шумахером, его кланом и его креатурами, покинут Петербургскую Академию — Эйлер в 1741 году (до 1766 года он будет работать в Берлине), Делиль и Гмелин в 1747 году.
Таким образом, к середине 1730-х годов в Петербургской Академии наук не было человека, который в себе одном совмещал бы качества, необходимые для успешного противодействия Шумахеру. «Мудролюбивые российские отроки» даже при очень сильной любви к России и наукам не могли противопоставить ничего положительно равного по силе шумахерову торжествующему коварству, ибо в подавляющем
Читать дальше