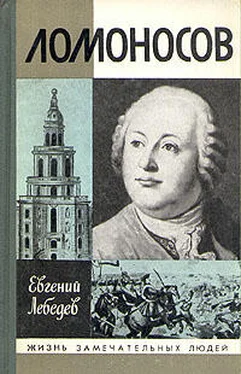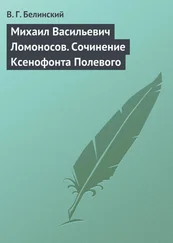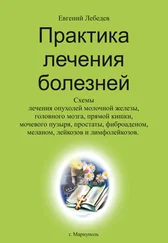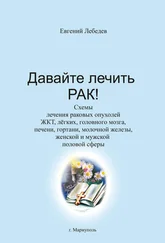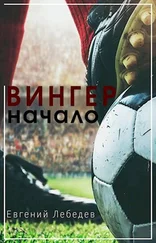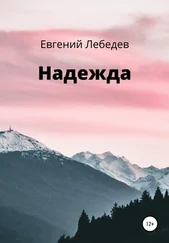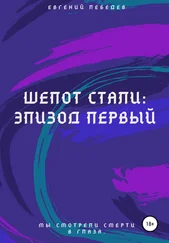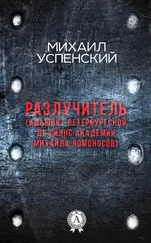Упомянутые произведения Ломоносова (философские и физические наброски 1740-х годов, письма к Эйлеру 1748–1754 годов) показывают, что для него среди всех естественнонаучных проблем эпохи самой важной была проблема правильного философского метода. Если монадология Лейбница и Вольфа, с его точки зрения, была чревата «мистическими» издержками, особенно в умах и творениях эпигонов, этих «шершней-монадистов», то и перед теми, кто исповедовал «метод философии, опирающийся на атомы» (следовательно, и перед ним самим, убежденным и страстным апостолом атомистического мировоззрения), возникала своя опасность, равно губительная для достоверного познания природы, — опасность механицизма. Ведь объявил же он в «Опыте теории о нечувствительных частицах» законы механики высшими, всеобъемлющими законами природы. И вот теперь, в заметках к «Системе всей физики», которые, по существу, целиком посвящены проблеме метода, Ломоносов намеревается свести воедино свои мысли в этом направлении, не воплощенные ранее. При всем том со страниц заметок встает образ совершенно нового Ломоносова, ученого и мыслителя.
В самой структуре набросков будущего труда (а они имеют свою структуру) как бы отразилось постепенное восхождение ломоносовской мысли к качественно новому знанию. Заметки разделены на три группы. Первая, состоящая из двадцати восьми фрагментов, — это что-то вроде «первичною хаоса», того самого. из которого Бог-творец создает стройный и гармоничный мир. Семь пунктов второй группы показывают, на основе каких принципов будет происходить упорядочение исходного материала. Наконец, третья группа, озаглавленная «Отделы микрологии», судя по всему, и представляет собою набросок труда, которому предстояло изложить целиком «систему всей физики». Это слово «микрология» выбрано не случайно — оно полемично по отношению к «Монадологии» Лейбница. И еще две великие тени — Декарта и Ньютона витают над страницами ломоносовских заметок.
Обратимся ко второй их группе, в которой сам Ломоносов дал нам ключ к пониманию его замыслов. Начальная строчка здесь гласит: «Как я поступать намерен». К ней присовокуплен цифровой указатель, позволяющий видеть, какие заметки первой группы выражают собственно авторскую позицию.
В природе Ломоносов выделяет как основное ее качество «самоочевидную и легкую для восприятия простоту» (вспомним у Ньютона: «Природа проста и не роскошествует излишним количеством причин»). Эта, выражаясь современным языком, специфика предмета предполагает соответственный стиль исследования. По мысли Ломоносова, через «точность опытов, осмотрительность, истинность», а также через «тщательное сцепление доводов» исследователь необходимо приходит к «согласному значению доводов». При этом ему возбраняется чинить насилие над природой: правильный метод означает, что в равной мере «из согласного и несогласного извлекаются доводы». Нельзя упорствовать в своих заблуждениях. Девиз настоящего исследователя таков: «С величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов». Касательно рабочей терминологии задуманного труда Ломоносов специально подчеркивает, что и она будет соответствовать предмету исследования, то есть будет простой и вполне традиционной: «Пользуюсь здесь многими словами как вполне известными, как-то: фигура, движение, покой, — не давая здесь определений их». Наконец, он указывает, что свою «систему всей физики» он строит в следующих трех измерениях: «Историческое познание, философское и математическое, каковы будут у меня».
Обозначив в общих чертах, как «поступать намерен» он, Ломоносов, переходит в своих заметках к тому, «как поступают иные». И вот тут выясняется, что за двадцать лет, истекших после работы над «Опытом теории о нечувствительных частицах», он из апологета механических понятий о мире во многом превратился в их оппонента. Он не хочет поступать, «как поступают иные», ибо «иные», как явствует из заметок, сплошь механицисты: «Физические писатели целиком находятся в области механики». Он не намерен погружаться в рутину чисто механических подробностей: «Махины, до практики надлежащие, выкину». Он поднялся на высоту, на которой потребны новые понятия, новые гарантии благонадежности теоретического взлета. Механические же понятия хороши в своей области.
Вот почему целый ряд дальнейших заметок идет у Ломоносова под рубрикой «Благонадежность». В сущности, здесь Ломоносов говорит о том, что является в его «Системе всей физики» критерием истины. Законосообразность природы предполагает, по мысли Ломоносова, такое ее постоянное проявление, которое удобнее и вернее всего было бы выразить даже не физическими, а этическими терминами: «Чудеса согласия, сила; согласный строй причин; единодушный легион доводов; сцепляющийся ряд». Этого мало: «Гармония и согласование природы». Но и этого мало: «По согласованию и созвучию природы». Но даже и этого мало: «Согласие всех причин есть самый постоянный закон природы». И уж совсем напоследок: «Все связано единою силою и согласованием природы». Критерий физической истины заключен в том, что Ломоносов называет «гармонией», «согласием», «согласованием», «созвучием», «единодушием» природы. Истину заключает в себе такое естественнонаучное мировоззрение, которое не искажает этот консенсус, присущий природе. Вот почему в Системе, по-настоящему благонадежной, «причины совмещаются и связываются».
Читать дальше