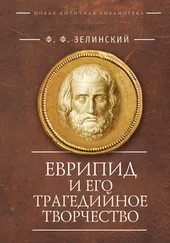А перед таким человеком — всегда выбор, в основе которого — понимание того, что же такое культура. Если она — пустоцветение, поверхностное убранство жизни, прихоть племенной воли, значит, удел человека — разместить свой ум и душу между откровенным цинизмом и простодушным гедонизмом. Зелинский понимает культуру иначе. Она — воплощение переживаний «большого я», подчинение животного инстинкта (в том числе — безотчетной тяги к «своему» в ущерб «чужому») духовным ценностям человечества, поскольку оно ищет смысл своего появления во вселенной, ибо твердо верит, что этот высший смысл существует. Зелинский далек от вульгарного уподобления культуры труду земледельца — с его непременной «корчевкой», «прополкой» и «селекцией»: люди очень дорого заплатили за эту простую аналогию.
«Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дует роковой для нас юго-западный ветер: волны совершенно явственно направлены на восток; кажется, что река вспять потекла, обратно к Ладожскому озеру — и тем не менее вы знаете, что каждая капля этого озера в силу незримого, но очень реального естественного течения реки попадет в Финский залив и что единственным результатом того встречного течения, вызванного ветром, будет кратковременное наводнение в Галерной гавани. То же самое и в обществе и общественном мнении: и в нем вы имеете не одно течение, а два. Одно — это то, в котором оно отдает себе отчет, бурное, крикливое, капризное, производящее всякого рода наводнения и другие бедствия; другое — то, существования которого оно не подозревает, — тихое, безмолвное и повелительное. Два течения — или, если хотите, две души, два я».
Малое «я» культуры — это мир национальной ограниченности. Малое «я» культуры — это доктринерский монолог отшельника, самовлюбленного гордеца. Большое «я» — разговор «гражданина мира». У каждого европейца, по мысли Зелинского, по меньшей мере — «две родины: одна — это страна, по имени которой мы называем себя, другая — это античность». «Культурная история каждого из новых народов была маленьким ручейком до тех пор, пока в нее не влилась широкая река античности, принесшая с собою все идеи, которыми наш ум живет в настоящее время, с христианством включительно… То, что сплачивает воедино европейские народы, несмотря на их не только национальное, но и племенное (имеется в виду расовое. — Г. Г.) различие, — это их одинаковое происхождение от античности» («Из жизни идей», с. 77–78).
Кто-нибудь скажет, что это слишком решительное утверждение, что не все в европейской культуре сводится к античным корням. Но попробуем вслушаться в аргументы Зелинского. Страшное испытание Европы «на разрыв» было впереди, а он легко и задолго почуял угрозу — и только благодаря тому, что всю свою жизнь посвятил изучению общей античной родины, которую вовсе не он один называл «основанием единства европейской цивилизации».
В чем же суть «общей античной родины»? Почему изучать античность значит становиться европейцем?
«Что было, то прошло!» — гласит мудрость варвара. «Что было, то есть», — от прошлого не отделаться — не только от дел и событий, изменивших природный ландшафт или политические границы, — но и от слов, кем-то когда-то произнесенных. Поэтому понимание того, что было, это понимание того, что есть. История — не только греческое слово, но и античное понятие. Оно усложнилось, обросло со временем мякотью новых приемов и радужными покровами новых событий, но ядро осталось старое — греческое. «Истина — око истории», — говорил Полибий. Семя исторической правдивости, может быть, и в античности не всегда давало всходы. Но без античного историзма европейская цивилизация блуждала бы в зарослях «готтентотской морали».
Философия — другое греческое слово, лежащее в основании европейской цивилизации. В поисках «семени, которое заключает в себе античная философия», Зелинский формулирует его как «переубедимость»: ты должен признать самое неприятное для тебя положение, раз оно доказано; ты должен отказаться от самого дорогого тебе убеждения, раз оно опровергнуто, — вот кодекс чести мыслителя. (…) А потому — опровергай, доказывай, но не жалуйся, не злословь, не приходи в азарт. «Древний мир был (чтобы употребить удачное выражение Вл. Соловьева) не однодум, а многодум…» Не монолог — а диалог, то есть, по-русски, раз-говор, — вот условие раскрепощения ума от косного самолюбования и склонного к преступлениям хитроумия: античная философия и есть эта школа раз-ума, в которой непременным условием силы разума остается терпимость к чужому уму да и к своим и чужим «страстям и внушениям». Зелинский далек от безоглядной веры в «человека разумного». «Прежние добрые и злые духи вновь стали управлять людьми под именем страстей и внушений», — констатирует он. Но тут же добавляет: «развивающемуся еще человеку полезно признавать силу разума, даже если бы в последующей жизни ему пришлось узнать, что не разум и убеждение, а страсть и похоть управляют его средой».
Читать дальше



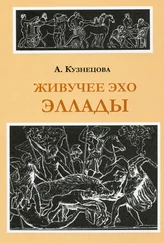

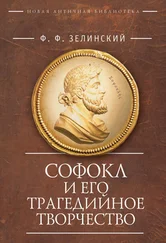
![Фаддей Булгарин - Иван Иванович Выжигин [litres]](/books/413729/faddej-bulgarin-ivan-ivanovich-vyzhigin-litres-thumb.webp)
![Фаддей Булгарин - Димитрий Самозванец [litres]](/books/413730/faddej-bulgarin-dimitrij-samozvanec-litres-thumb.webp)