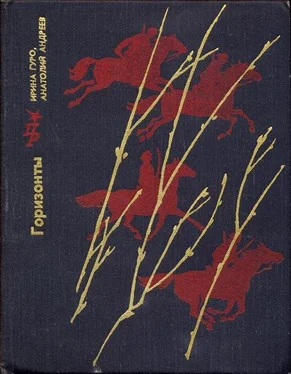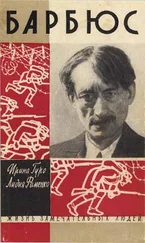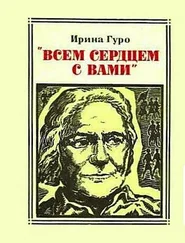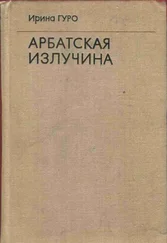Вместо того чтобы побрести в хату, где, он знал, томится в ожидании брат, он сел на ступеньки крыльца и здесь уже никак не смог прогнать воспоминание, загнать его поглубже, как раньше загонял. Оно было при нем с той минуты, как он увидел вытекающий из стены, неправдоподобный, как тяжелый сон, хлебный ручей…
Мать всегда жалела Антона, любила его больше, чем удачливого старшего. Она жила долго и всегда была на ногах. И Олесю ненавидела, как и все в семье, считала, что она погубила жизнь Антона. Из-за нее отец лишил его богатства… Мать упала в погреб, оступившись. Это и раньше с ней бывало, но обходилось. А тут слегла и стала чахнуть. Перед самой смертью она как-то размягчилась, позвала Олесю, как будто повинилась перед ней, хотя слов про это никаких не сказала. Только о детях…
Мать отходила благостно, без мучений. Вдруг вспомнила слова молитвы, не все, а вразброд. Бормотала бессвязно: «Аще изыду… Господи, прими душу мою… безвинно…»
Кондрат не убивался, принял как должное: старуха должна же умереть, и раз такое дело, вот она и умирает. Да в ту пору и некогда ему было, не до того: он как раз в силу вошел, хлеба было много, ума не приложишь, куда его девать, как сбыть. А сбыть некуда — значит прятать. А как прятать? Казалось, все хитрости уже известны, все уловки раскрыты. Ямы перекопаны, двойные чердаки вскрыты. Уж как придумал богатей из соседней деревни: сделал боковой ход из ствола колодца и считал — здорово сообразил, двести пудов зерна лежали у него словно под пудовым замком. Однако же люди доказали. Вся беда в этих людях, что доказывают, в этих проклятых комнеза-мах: все знают, все раскопают… Нет, не их вина: вина того порядка, что заведен. Того уполномоченного, который несет этот порядок в деревню. Не было бы к кому бежать, доказывать, так бы и сидели со своим знанием, ничего бы сами не сделали. Пошушукались бы между собой — и всего дела…
И опять Антон видел умирающую мать. А потом уже мертвую, ссохшуюся, из величавой старухи превратившуюся в комочек мертвой плоти. И странно: сколько ни видел Антон покойников, как-то не узнавал их — словно умер человек другой, незнакомый. Он не мог связать того, кто лежал в гробу, с тем, кого знал живым. И потому не горевал по умершему.
А здесь, с матерью, было иначе: он остро чувствовал, что в гробу лежит именно она. То, что уже никогда она не будет другой, а только этим ссохшимся, бездыханным телом, приводило его в отчаяние. И он убивался, казалось, не только по матери, а по своей собственной жизни, нескладной, замусоренной. И не было у него впереди ничего, кроме ухабистой пыльной дороги, ведущей к такому же гробу, к такому же ссохшемуся куску мертвой плоти.
Он не слышал звонкого утра, мать умерла аккурат в тот час, когда по всей деревне звенят ведра и подойники и мычат коровы, словно трубы, призывающие тс трудовому дню. Ничего не слышал Антон. Тихо было у него и пусто в душе, и вокруг была пустота, в которую отлетела душа матери.
А потом наступило самое страшное. Более страшное, чем это утро, потому что было в нем все-таки что-то облегчающее, что скрасило и последующие дни: монотонное чтение псалтыря дьячком, нанятым братом, и ладные причитания плакальщиц, тоже нанятых, и непритворные слезы Олеси: добрая душа, все простила. И даже сами похороны…
Не понял тогда Антон, что означали слова деда, — не ему, Кондрату, твердил старик: «Глубже копайте яму, глубже». Тогда уже обезноживший, свесившись с печи, все нашептывал, все учил… И страшное значение этих слов не понял тогда Антон.
И только на следующую ночь после похорон… Почему он остался тогда ночевать у Кондрата?.. Да, тот попросил его остаться. И, как всегда, Антон пожалел его, подумал, что тому тоскливо, пусто без матери. А уж кто ближе ему? Их только двое, братьев. Антон всегда об этом думал. И теми же словами, которыми думал в детстве, когда защищал Кондрата в мальчишеских драках. И Антон остался. А в полночь брат разбудил его. «Пойдем», — сказал, будто договорились раньше. А ведь никакой речи не было, не понял даже Антон: куда? зачем? А дед опять не спал: в тусклом свете каганца, бросая большую тень на беленую стену, свешивалась голова его с печки. Говорил непонятные слова: «Засыпайте аккуратно, дерном прикройте».
И еще что-то бормотал — деловито, настырно…
Страшно на кладбище ночью, еще страшнее — разрывать материнскую могилу! Грех. Антон не верил ни в сон ни в чох, ни в бога ни в черта, а в грех верил. Втайне верил. И потому страшней, чем хоронить мать, — в смерти ее он не повинен, — было разрывать ее могилу, выбирать землю, много земли, словно не одну, а много-много материнских могил разрывают они с братом.
Читать дальше