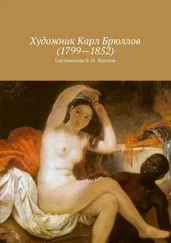Именно в Москве, на обеде у Матвея Алексеевича Окулова, был я представлен Павлу Воиновичу Нащокину — еще одному близкому другу Александра Сергеевича, который, вняв моим просьбам, согласился написать рекомендательное письмо к Пушкину.
Это письмо было для меня заветным пропуском к великому поэту. Потому как собственная мировая слава — это одно, а вот при одной мысли о Пушкине, не поверишь, робел. Да, казалось бы, князей, графьев сколько на своем веку повидал, с королями, принцами да герцогами дружбу водил. А к нему, хоть застрелись, не смел без протекции явиться. Полным дураком себя чувствовал. Как вспомню стихи его — мороз по коже. Не человек — человечище! Волшебник, бог!!! [53] Из письма П.В. Нащокина А.С. Пушкину: «Теперь пишу тебе вследствие обеда, который был у Окулова в честь знаменитого Брюллова. Он отправляется в Петербург по именному повелению. Уже давно, т. е. так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека; о таланте говорить мне тоже нечего: известен он — всему Миру и Риму. Тебя, т. е. твое творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобою познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Каково тебе покажется? Знать, его хорошо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно — он заметил вообще здесь большое чинопочитание, сам же он чину мелкого, даже не коллежский асессор. Что он Гений, нам это — нипочем… Во время обеда ему не давали говорить — пошло хвастать. Хозяин и его гости закидали его новейшими фразами, как то, что все музы — сестры, что живописец поймет поэта и проч. в таком роде. Когда устал играть в карты, я подсел к Брюллову и слушал его — об Италии, которую он боготворит. Дошла речь о его занятиях и о тебе… Человек весьма привлекательный, и если ты его увидишь и поговоришь с ним, я уверен, что мое желание побывать еще раз с ним тебе будет вполне понятно. Статья о Брюллове — к концу, и вот чем заключаю… Кому Рим удивлялся, кого в Милане и в Неаполе с триумфом народ на руках носил, кому Европа рукоплескала, того прошу принять с моим рекомендательным письмом благосклонно».
.
* * *
В доме Тропинина Василия Андреевича — открытость и радушие. Не только к людям; исполняя старинный русский обычай, Тропинин с супругой каждый день кормят у себя в комнате с окнами на Кремль целое полчище тараканов. А те — умные твари — знают время и являются, как по сигналу, аккуратно в восемь часов. Все, сколько их ни есть в квартире, с семьями да малыми детишками. Попьют, поедят каши и на покой. Василий Андреевич говорит, что после кормления сутки не видит и не слышит этих насекомых. По словам супруги Тропинина, тараканы несут в дом богатство. Посему обидишь таракана, пеняй на себя: заказов не будет и, как следствие, денег.
Василий Андреевич нынче первый портретист Москвы! Заказов у него на много месяцев вперед набрано. Должно быть, тараканы дело знают. Подсуетятся, где надо, глядишь, в скором времени и переедет Василий Андреевич в собственный дом из частного, что у Каменного моста, где он снимает квартиру. Хотя Тропинин из бывших крепостных, в сорок семь лет вольную получил, так что вряд ли решится когда-нибудь собственным домом обзаводиться. В Петербург его звали, зазывали… да он общества чурается, говорит, лучше уж в тихой, спокойной Москве век доживать, лучше в безвестности, чем среди чужих ему людей, в океане страстей и интриг…
И то верно подмечено, Москва — тихое, покойное, патриархальное место. Хорошо бы на старости лет поселиться где-нибудь в ее нешумном центре, подальше от хлопот и жизненных превратностей. Вот и его сиятельство граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин по декабрьскому делу сначала был заключен в крепость, откуда отправлен в действующую армию на Кавказ. Послужив полных два года, граф получил предписание, обязывающее жить в Москве, что лишний раз подчеркивает спокойный характер этого милого города….Из гостей в гости, потом снова какие-то гости, потом театр, Щепкин Михаил Семенович, очень приятный человек. Обязательная опера, потом за город — в санях кататься, а после гуляние. На мне шуба лисья, теплая — страсть, сам-то я холода дюже боюсь и болею, и мысли разные, все больше печальные, одолевать начинают. От того с собой вина наикрепчайшего несчетно, пирожки, шанишки, пряглы, лепешки со всяческими припёками. Сколько и чего, не скажу. Много. Все теплое, прислуга специально в особый короб уложила, платками да полотенцами завернула, да только разве так жар на морозе-то убережешь? В рот их, сколько ни есть, еще на пути к цели, щедро запивая водкой или коньяком. Ничего, на месте еще раздобудем. На Великой неделе недалеко от села Новинское — гуляние. Качели, карусели, балаганы с куклами да сколоченные на скорую руку, яркие, как все вокруг, едальни. Раскрасневшийся, потный мужик в пестрой рубахе с заплатами-ластовицами под мышками весело подзывает желающих отведать блинков, которые он тут же печет сразу на двух огромных сковородах. Девчонка лет двенадцати, рыжая да веснушчатая, тут же накладывает на тарелки грибки да жареный лучок; желающим отведать сладенького, мальчишка, сын блинодела, щедро обливает блинки медом и вареньем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
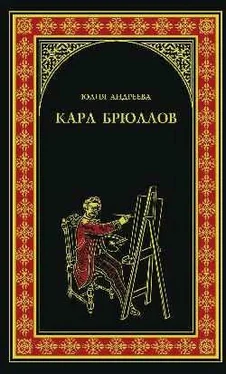







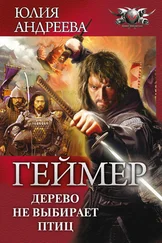


![Юлия Алейникова - Прощальный подарок Карла Брюллова [litres]](/books/400873/yuliya-alejnikova-prochalnyj-podarok-karla-bryullova-thumb.webp)