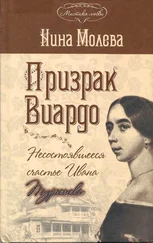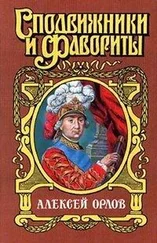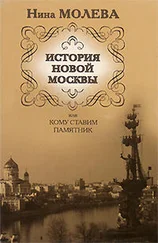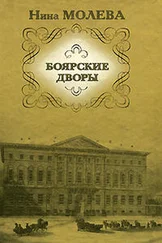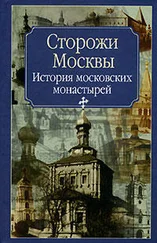— Что уж теперь спорить-то, царевна тетенька. Думай как знаешь, коли так тебе легче. Бог с тобой.
1 сентября (1681), на Новогодье боярин князь Никита Иванович Одоевский говорил от лица всех чинов поздравительные речи государю, патриарху, властям и всему священному собору.
Жалеть бы государя-братца надо, да жалости взять неоткуда. Намедни на царевну тетеньку поглядела, сердце оборвалось. Как ждала владыку Никона, как видеть его хотела, как молила за него… Дождалась. За одну ночь голову нитками серебряными прошило. Губ разжать не может. Одно слово только и вымолвила: «Марфинька…». Захлебнулась. За горло держится. Нету Никона. Нету и не будет.
На государя-братца поглядела. Лицо длинное, худое. Нос ястребиный. С горбинкой. Всегда-то смуглым был, а после кончины Агафьи пожелтел весь. Лоб морщинами пошел. Залысины издаля видны. Сам весь будто усох. Волосы в завиточках коротеньких. Усы и борода еле видны. Уши небольшие. Только и есть, что глаза навыкате. На что ни посмотрит, взгляда отвести не может. Как завороженный. Спросишь, долго молчит, пока ответит. На Новогодье в терема пришел: посредь царевен что твой мальчишечка. Росточком мал, толст, а беспрестанно улыбается. Спроси, чему, поди, сам не ответит. Улыбка смутная, как облачко — то ли набежало на солнышко, то ли уж прочь поплыло. Походка нетвердая, тяжелая. Прежде чем наступать, землю щупает. А наступит, вроде пошатнется. Ходить-то сызмальства не любил, все больше сидеть. Нынче и вовсе — платье на дню сколько раз переменит, а с места не двинется. Батюшка на медведя с рогатиной ходил. Бражничать с дружиной сядет, едва не до утра просидит. На охоте устали не знал. Все-то ему не сидится, все бы ездил, в походы ходил, а вот поди ж ты… Сыну здоровья не передал. Где там! Поберечься бы государб-братцу, а он опять жениться задумал. Может, с новой женой оклемается, в силу войдет. А коли не войдет? Нарышкины и не думают униматься. По всей Москве толки идут, будто братец всегда-то здоровьем слаб был, нынче же чахоткой захворал. На Красное крыльцо выйдет, в народе шепот. Разглядывают, промеж себя толкуют, головами качают.
Чего ж Нарышкиным слухов не распускать. Скольких государь-братец одним межеваньем обидел. Слушать ничего не хотел. С сестрами с досады видеться перестал. Про меня да про Софью при дружине своей отозвался, мол, пусть на глаза не кажутся. Языкову с Лихачевым только того и надо. Теперь собор созвал для устроения и управления ратного дела. Кстати порешил и местничество уничтожить, а к тому и все Разрядные книги сжечь. Чтоб не тягались между собою бояре да дворяне, кому под чьим начальством служить, кому с кем за царскими да патриаршьими столами сидеть. Оно, может, и верно, чтоб государю ни в чем не перечили, своевольства своего не отстаивали. Нешто родом человек государю дорог — службою! Да только быть от такой перемены смуте великой, всенепременно быть. Святейший и тот засомневался, государю-братцу было толковать начал. Государь ни в какую. Владыка и отступился. Не иначе дружина государева тут причинилася. Сказывают, и невесту новую Иван Максимович Языков из родственниц своих подобрал. Марфу Апраксину. В Златоустовском монастыре у обедни была, видела — родовая усыпальница там у них.
Хороша девка, ничего не скажешь. Высокая. Статная. Румянец во всю щеку. Брови соболиные. Ресницы в полщеки. Отца-то ее еще когда, Матвея Васильевича, в степи между Саратовом и Пензой калмыки да башкиры убили. Старший брат Петр Матвеевич прошлым годом в окольничьи пожалован. Федор Матвеевич к государю в стольники — мальчишечка совсем. Бойкий такой. Сестра смиренница. Со стыда слова вымолвить не может, только все в пояс кланяется, краской заливается. Заговорила было с ней, рукавом прикрылася, дрожью дрожит.
14 февраля (1682), на день памяти равнопрестольного Кирилла, учителя Словенского, преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах, и двенадцати греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры, царь Федор Алексеевич обвенчался с Марфой Матвеевной Апраксиной.
— Просчитались мы, Марфа Алексеевна, просчитались, царевна-сестрица. Сама же говорила, будто скромницу да молчальницу государь-братец выбрал, ан вышло по присказке: ночная кукушка завсегда денную перекукует. Ладно бы в чем другом перекуковала, а то на тебе — за Нарышкиных вступилася. Оглянуться не успели, уж Артамону Сергеевичу Матвееву прощение вышло. Что себе государь-братец думает? Умен — умен, да сразу впросак попал. Царевне тетеньке Татьяне Михайловне сколько лет отказывал в снисхождении владыке Никону, а тут с одного слова всю силу отродью проклятому вернул.
Читать дальше