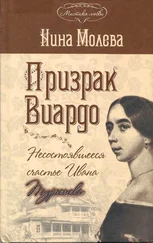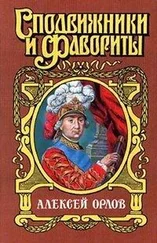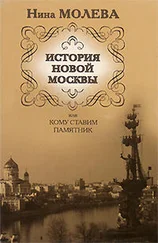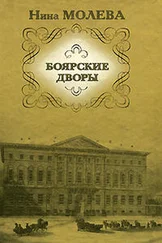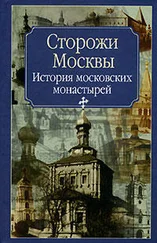— Вот только наше пришло ли.
8 февраля (1676), на день памяти великомученика Федора Стратилата и пророка Захарии Серповидца, приходил к патриарху ко благословению в Крестовую Палату боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, велено ему быть по указу великого государя в Стрелецком приказе.
— Надысь спрашивал я тебя, князь Никита Иванович, с чего правление мне свое начинать. Ты отвечал, с чего похочу.
— А как же иначе, великий государь.
— Да молод я, боярин…
— Коли Господь сподобил тебя власть монаршью принять, Господь тебя и просветит в начинаниях твоих.
— Не хочешь советовать, Никита Иванович. А у кого мне и спроситься, как не у тебя. Что блаженной памяти дед, что покойный батюшка все тебе доверяли. Верно ты им служил.
— И ты моей службой доволен будешь, великий государь. Сколько силы позволят, столько верой и правдой послужу. А советы — тебе же, государь, труднее будет, коли кто узнает, что старый Одоевский их давал. Оговаривать начнут, сплетки плести. Милости меня твоей лишат.
— Никогда такому не бывать, князь!
— Чего только не бывает, великий государь. Слыхал, поди, поговорку-то, близ царя — близ смерти.
— Я таким царем не стану, вот увидишь, Никита Иванович. А тебя я так уразумел, что надобен новый начальник Стрелецкого приказу. Вот пусть им боярин Долгоруков-старший и будет. Очень ты его хвалил.
— Да что князя Юрия Алексеевича хвалить, его служба сама себя хвалит. Стольником был, воеводой в Белеве да Путивле сидел. Сыскной приказ ведал — закладчиков в Москве и разных городах собирал, казну государеву пополнял. В полку не один год провел, в Литовском походе да под Смоленском отличился. А что под Симбирском Стеньку Разина наголову разбил, за то батюшкой твоим государем блаженной памяти Алексеем Михайловичем шубой да кубком пожалован. Ему ли в Стрелецком приказе да не разобраться. Того важнее — при дворце не толокся, паутины тут никакой не плел.
— А сына княжьего Михайлу Юрьевича хочу при себе оставить, как скажешь?
— И против Михайлы Юрьевича дурного слова не скажу.
— Пусть будет боярином. Я его нынче со здоровьем к святейшему посылал. Рад был князь очень.
— А как же, великий государь, честь-то какая. С Петром Васильевичем Шереметевым, поди, тоже распорядишься. В Сибири ему воеводою куда лучше быть.
— Сказал ему, сказал. А боярина Ивана Богдановича Милославского в Казань, так, что ли?
— Мудро решил, великий государь. И слыхал, донских казаков ты отпустил?
— Атамана, есаула да с ними сорок рядовых. Святейший каждому по образу дал, а от меня деньгами.
— Понятно, что ты обласкал их, государь, война-то и с ляхами, и с турками идет. Лучше них воинов не сыщешь.
— Да так я тебя понял, Никита Иванович, не больно доверяешь ты им.
— Твоя правда, великий государь. Ненадежны они, ох, ненадежны. То к туркам склоняются, то у Московского государя защиты ищут.
— А как же вера-то отеческая?
— Коли ей изменяют, то по своей воле. Чаще в православии остаются. Сабли их нужны ляцкому королю да султану, только и всего.
— А церкви как же строят?
— Да никак, государь, без церквей обходятся. Места долго не греют. Все больше в походе да в седле. Ладно, коли лоб на дню раз-другой перекрестят.
— Плохо ведь это. Пускай бы патриарх им приказал.
— Не мне тебя, великий государь, учить, а только из жизни своей долгой я выразумел: николи того не требовать, чего заведомо людишки не сделают. Не замечать лучше.
— Для кого лучше?
— Для власти, великий государь.
10 мая (1676), на праздник Вознесения Господня, приходил к патриарху на благословение князь Василий Федорович Одоевский, по указу великого государя велено ему быть кравчим у великого государя.
Зима отошла. Долго держалась. В апреле то мороз приударит, то снегом дороги запорошит. Со Взруба видать: лед трогается. Торг с реки разбежался. Кто на берегу доторговывает, кто в ряды ушел. У пристани баркасы ладят. Смолой тянет. Улицы не сегодня-завтра чистить начнут: жижи полно. Сани-то уж на повет позакинули, а колеса по ступицу вязнут. До Коломенского бы доехать. Поди, трава окрест проклюнулася. Оглянуться не успеешь, черемуха зацветет. Из лепестков метель белая закружит. Да нет, что Коломенское. На богомолье бы куда подальше — Божий свет посмотреть. Сказала государб-братцу, согласился: почему бы вам и вправду не поездить. Что так-то век целый в теремах вековать. Софьюшка верно рассчитала: на погребение батюшки царевнам в народ выйти, в соборе показаться. Боярам не всем понравилось, да кто тогда приказать мог. А уж за первым разом на второй запрету не наложишь. Чай, не на праздник какой — на богомолье. И то сказать, почему бы и не на праздник. Вон в какие времена великая княгиня Софья Фоминишна [97] т. е. Софья (Зоя) Палеолог, вторая жена Ивана III. [19] Великий князь Иван III (1440–1505) в 1472 г. вступил во второй брак с Зоей (Софьей) Палеолог, дочерью Фомы Палеолога, брата последнего византийского императора Константина XI (1403–1453). После падения Константинополя укрывалась с отцом в Риме. Папа Павел II хотел через ее брак с Иваном III осуществить соединение церквей.
не то что на площади кремлевские да московские выходила — послов иноземных отдельно от великого князя принимала, беседы с ними вела, от себя Папе Римскому да правителям разным приветы да подарки посылала. И великая княгиня Елена Васильевна [98] т. е. Елена Васильевна Глинская, вторая жена Василия III. [118]
от людей не крылась. Супруга схоронила, сама править взялась. Оно, может, и недолго — всего пять лет, а все ее времечко было. Все почести великокняжеские принимала, сама суд да расправу вершила, словно на престоле родилась. Это уж государь Иван Васильевич, сынок ее любезный, новые порядки завел. Известно, семерых жен в люди не выведешь. Пришлось по теремам прятать да с попами воевать, чтобы от церкви не отлучили. Никто диву не давался, когда и Маринка, Гришки Отрепьева супруга богоданная, людям показывалась. Оно верно, что воровская женка, так бояре ей как царице кланялись — свой расчет имели.
Читать дальше