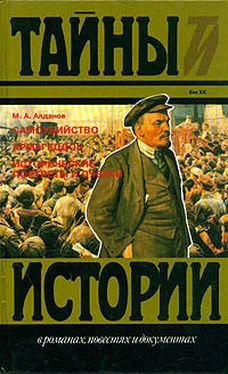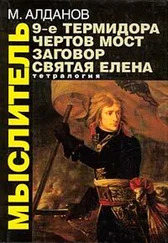На близкую революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос об Албании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подали было ему надежду, однако, лишь слабую. — «Война Австрии с Россией», — писал он тому же Горькому, — «была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».
В министерстве иностранных дел на Балльплатц «был страшнейший хаос» («herrschte das schrecklichste Chaos»), — говорит в своих воспоминаниях, высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во всё. Один известный посол, не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерства.
В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде (кроме ритуала Бурга и Шенбрунна): во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многоплеменной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России с ее недавней революцией, во Франции с недавним делом Дрейфуса, да и в очень многих других странах.
Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом — с большой долей справедливости — обвиняют министра иностранных дел графа Берхтольда. С той же относительной верностью, в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности, в 1914-ом году судьбы мира были в руках двух неврастеников.
О Берхтольде люди, его знавшие, оставили разные и противоречивые сведенья. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек, во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов, «простая машина для подписывания бумаг». Другие видели в нем крайнего честолюбца, сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией.
И то, и другое не может быть вполне верно… Летом 1914-го года граф Берхтольд во всяком случае не ленился и никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не «подписывал», а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно обязан их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францу-Иосифу до отправки в Белград: опасался, что император не даст на него согласия или во всяком случае очень его смягчит. Берхтольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум, но очень хитро устроился так, чтобы и оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять: сам это говорил с почти идиотическими самодовольством и гордостью.
Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как, по самому своему неврастеническому изменчивому характеру, просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и честолюбцем. Берхтольд и министром иностранных дел стал очень неохотно: предпочел бы должность главы придворного ведомства, — не связанную ни с какой ответственностью и не обещавшую никакой славы. В смысле честолюбия с него, повидимому, было совершенно достаточно того, что он граф Берхтольд фон унд цу Унгаршитц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов: «тот самый!»
В 1913-14 годах «больным» вопросом Европы стали балканские дела. Такие больные вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались «проблема Албании» и «проблема великой Сербии». Об албанских делах никто из государственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них «возможно реже». Сербские дела были известны лучше. Сербия, после двух победоносных войн — первой, в союзе с Болгарией, против Турции, второй, при полускрытой поддержке Турции, против Болгарии, — стала могущественной державой: в ней теперь было четыре с половиной миллиона жителей. В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос: может ли Австро-Венгрия допустить существование на своей границе столь мощного государства и не грозит ли это ей гибелью?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу