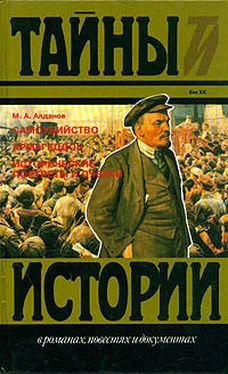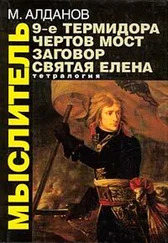Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городовые были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей, и, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее тифлисский прокурор обвинял в легкомыслии полицеймейстера, а полицеймейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора.
«Теоретики» экспроприации предпочитали называть их «боями гражданской войны»; любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили, по «Войне и Миру» или по бесчисленным газетным цитатам с «Die erste Kolonne marschiert», о диспозиции Вейротера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае они тщательно выработали подробный план дела на Эриванской площади: Чиабришвилли, Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе, Чичиашвили и Эбралидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами, Далакишвили и Какриашвили на полицейский отряд у здания городской управы, Ломинадзе и Ломидзе на караул у Вельяниновской улицы, и т. д.
Однако экспроприации не так уж похожи на бои, они длятся не целый день и не несколько часов, а разве три-четыре минуты, и науки о них уже во всяком случае не существует. «Соотношение сил» экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти или десяти или даже двадцати казаков. Собственно самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эриванская площадь, людная, центральная, расположенная по близости от дворца наместника. По ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти беспрерывно, военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа, у банков, на углах каждой из выходивших на площадь улиц.
Руководители дела, не слишком дорожившие чужой и даже собственной жизнью, на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв: с раннего утра Камо в военном мундире, со свирепым видом, ходил по площади и вполголоса, вставляя в свою русскую речь «ловкие таинственные замечания», советовал людям уходить поскорее. Мера была довольно бессмысленна: на смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, и этот странный офицер, по логике вещей, если б такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городового. На самом деле он никаких подозрений не вызвал, благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, которой сам стоя правил (что тоже едва ли часто делали офицеры).
Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13-го июня, в 10 часов утра, кассир тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получат в почтово-телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк, на Баронскую, мимо Пушкинского сквера, через Эриванскую площадь и дальше по Сололакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами, — они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман, в отличие от многих других экспроприаторов, не брали: всё отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России.
Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело: деньги из столицы приходили в Тифлис часто. Распорядителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и счетчику приставлены караульный Жиляев и довольно большой наряд из солдат и казаков.
Вероятно, из экономии фаэтоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали их; это было небезопасно, да и ненужно: они были запечатаны в двух огромных пакетах, 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того, кассиру было дано еще 465 рублей не запечатанных. Эти Курдюмов счел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок, затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаэтонам, в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаэтон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жиляев и два солдата. В третьем [1]еще пять солдат. Казаки разделились: часть скакала впереди фаэтонов, часть позади, а один казак сбоку от первого фаэтона, со стороны дверец.
Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Галдава дала знать о приближении казаков Степко Инцирквели. Этот сигнализировал Анете Сулаквелидзе, гулявшей перед зданием штаба, а она подала знак Бачуа Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой (что было последним общим сигналом) и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу