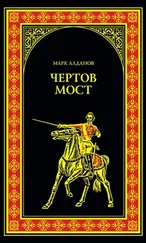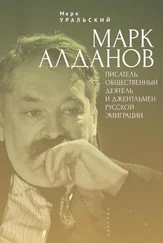Бертран невольно развел руками.
«Неужели его величество и небесные явления относит к своей особе?» — спросил он себя в недоумении.
Наполеон стал спешно составлять свое духовное завещание. Занятие это его увлекло и даже привело в хорошее настроение духа. Он работал целые дни. Изредка для отдыха приказывал читать себе вслух Гомера.
Скоро завещание было готово.
— Теперь жалко было бы не умереть, когда я так славно привел в порядок свои дела, — сказал он по окончании работы своему любимцу, молодому камердинеру Маршану, — и тут же подумал, что и эта внезапно пришедшая ему в голову фраза перейдет в историю, так как Маршан, конечно, тотчас ее запишет.
— Вот что, голубчик, — прибавил он. — Я завещал тебе пятьсот тысяч франков, но мои деньги далеко, во Франции. Бог знает, когда ты их получишь. Возьми пока…
Он вынул из ящика бриллиантовое ожерелье.
— Оно стоит тысяч двести. Я тебе его дарю. Спрячь. Ступай.
И, прекратив брезгливым жестом выражения благодарности камердинера, пожелавшего поцеловать ему руку, Наполеон велел позвать того генерала, с женой которого он был близок.
— Вам я оставил по завещанию… — с усмешкой назвал он огромную цифру. — Но, быть может, вы хотите больше?
Генерал, почтительно склонив голову, ответил, что ему дороги не деньги, а знак милости императора, который, как он надеется, будет жить долго.
— Таким образом, ваши бескорыстные и преданные услуги навсегда отмечены мною перед потомством, — медленно, с той же усмешкой сказал Наполеон.
На лице его снова появилось выражение брезгливости. Он погрузился в дремоту.
В середине апреля император призвал к себе духовника, аббата Виньяли, и долго говорил с ним о религиозном церемониале своих похорон. Выразил желание, чтобы над его гробом были выполнены в точности, как у самых набожных людей, все обряды, предписанные католической церковью. Обрадованный аббат предложил его величеству исповедаться. Но Наполеон, чуть улыбнувшись, отклонил пока это предложение.
Аббат Виньяли в мыслях взволнованно возблагодарил Господа за то, что Он обратил наконец на путь истинной, вечной и единственной веры эту непокорную человеческую душу. Уходя, аббат, словно нечаянно, оставил на столе императора Священное Писание.
Вечером Монтолон и Бертран, войдя в комнату Наполеона, застали его на диване за чтением толстой книги. Плечи императора слегка тряслись. Монтолон почтительно заглянул издали в книгу. Это было Пятикнижие.
— Моисей!.. — говорил Наполеон, с оживлением глядя на вошедших и сдерживая разбиравший его смех. — Какой ловкий человек, а? Правда, ловкий человек был Моисей?..
Генералам невольно показалось, что император, столь благочестиво говоривший с аббатом Виньяли, не верит ни в Бога, ни в черта.
Граф Бертран стал читать императору только что полученные английские газеты. В одной из них была резкая статья против лиц, виновных в расстреле герцога Энгиенского. Внезапно, во время чтения, Монтолон толкнул Бертрана в бок. Гофмаршал поднял глаза от газеты и с ужасом заметил, что у императора страшное лицо; такое выражение он видел у его величества за двадцать лет всего раза два или три, — в последний раз после битвы при Ватерлоо, когда Наполеон сказал окружающим с легким эпилептическим смехом:
— Все кончено… Все погибло…
Бертрану представилось, что у его величества и сейчас начнется эпилептический припадок.
— Завещание… Дайте сюда мое завещание! — прохрипел Наполеон.
Монтолон бросился за завещанием. Император дрожащими пальцами вскрыл пакет и, ничего не говоря, приписал несколько строк к последнему параграфу первого отдела:
«Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского потому, что этого требовали безопасность, благополучие и честь французского народа; в то время граф д’Артуа, по собственному его признанию, содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. В подобных обстоятельствах я и теперь поступил бы точно так же»…
В тяжелом настроении генералы вышли из кабинета. Было поздно. Маршан приготовил обе постели императора и помог ему раздеться. При этом камердинеру показалось, что у его величества сильный жар.
Ванна была готова. Император погрузился в горячую воду, морщась от прикосновения холодного цинка к плечам. Ноги его немного согрелись.
Ему стало совестно, что за несколько дней до смерти он мог еще приходить в бешенство от пустяков, от газетной статьи. Императора особенно раздражало то, что из тысяч преступлений, которые были им совершены, глупые люди неизменно попрекали его убийством несчастного герцога Энгиенского. Два миллиона людей погибло по его воле, а английские дураки думают, будто он может и должен сожалеть об одном каком-то человеке, ибо этот казненный по его приказу человек был принц королевской крови. Другой причины нет… Рабы!
Читать дальше