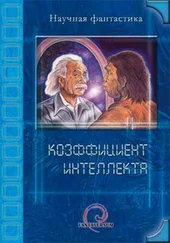Схоронили их честь честью: селяне и карьерные рабочие навалили ометной горой венков и цветов на могилу, справили за счет профсоюза поминки, добрыми словами поговорили о Матрене и Михаиле, об осиротевшем Веньке. Сам он на похоронах не был, не ел кутьи на поминках. То ли с испугу — он ни разу в жизни не видал еще покойников въяве, то ли с отчаяния, в час случившиеся беды Венька умчался на моторке к дальним бродам и там, бросив лодку, укрылся в шумливых камышах. Деревенские мужики нашли его на третье утро, в день похорон, однако никакими уговорами не смогли парня зазвать ни на кладбище, ни за поминальный стол. Послушался он только деда, который уже по вечеру, когда разошелся с поминок народ, привел его, исхудалого и голодного, с печально настороженными глазами под вихрастым чубом, теперь уже в очужелую для него избу…
* * *
Когда подоспел сентябрь, Венька с прежней охотой наладился в школу. Боль утраты, как это нередко бывает с юнцами, довольно скоро стала тупиться, заволакиваться в памяти сиюминутными бытийными заботами и желаниями, нужным и ненужным делом. Таким бы ладом, наверное, пошло и дальше. Однако на второй неделе школьных занятий в Авдеевой с Венькой избе опять сошелся сердобольный народишко — на сороковины. Соседские старушки сготовили наваристой лапши и крупитчатой кутьи с изюмом, карьеровский профсоюз нежадно раскошелился на вино. Когда в этот день Венька пришел с занятий, его усадили за поминальный стол и под печальную круговую поруку, совсем ненароком, соблазни парня на первую в его жизни стопку водки. Венька не противился, полагая, что с нее хмелеют только мужики-пьяницы. Дед Авдей, находясь в чувственной растерянности от сорокаденной печали, как-то не сообразил остеречь внука от столь ранней, по его мнению, рюмки.
Когда же Веньке перепала вторая да третья стопка, в глазах его поплыл стол, будто лодка, напиханная мертвой рыбой. В окошках запрыгали зеленые лягушки. Мужицкий дым от цигарок сизой тучкой померещился — того и гляди, гроза грянет и спалит избу. Печка, и та показалась толстобокой бабой из белого камня, каким привалило мать с отцом… Всю ночь потом дурнило парня, и перепугавшийся Авдей отпаивал его молоком, костерил старух, напоивших внука, клял себя и плакался Богу на судьбу, так безжалостно наказавшую всех сразу.
После поминок походил Венька в школу еще с месяц, а потом заартачился и вскоре бросил. Ни дедовы слезы, ни уговоры учителей, даже Маришка, воротившаяся с курсов, — никто и ничто не помогло парню. В бездельные дни он сломался вовсе: поугрюмел, стемнел лицом и глазами, маялся, не находя себе места и дела. Упал духом и старый Авдей: вдруг такая перемена — не выдюжил сирота непомерного горя… А тут еще карьеровский профком подлил масла. Каким-то днем в Авдеевский дом заявились три конторских молодухи — из профактивистов, и по-дурацки с наигранной панихидной торжественностью — «по случаю трагической утраты родителей…» — вручили Веньке конверт с «единовременным пособием», так как сиротскую пенсию еще не оформили.
Венька в тот раз топил печку, поскольку хворал дед и, приняв пакет, нимало не раздумывая, бросил его в огонь.
— Дурачок, там же — тыща! — взвизгнула одна из девиц.
— А надо миллион!.. Сто миллионов! — будто спьяна, заорал Венька. — Валитесь отсюда ко всем чертям и камням своим!
С той поры никто больше не совался к нему и его деду ни с поминальными подачками, ни с болезными словами. Да и сам Венька после вздорной выходки с профактивистками и сожжения денег словно вывернулся изнанкой: ожесточился к себе, по пустякам стал дерзить деду и всем другим, кто касался его жизни. Ему вдруг «расхотелось» средь своих деревенских слыть «умным, послушным, красивым и лучшим» из своих сверстников, как считалось еще недавно. С дерзкой нарочитостью все он теперь старался делать наоборот, то есть то, что не нравилось и опостылело людям. Даже редкие всплески нежности к Маришке он гасил постыдным озорством, а то и грубостью. Чтоб хоть как-то на время отвязаться от него, она, вспомнив слова его покойной матери, однажды выпалила: «Я не пара тебе, валяй домой! Не лезь петухом ко мне… Иль не видишь, какая рябая, хромая, толстая и разгульная твоя Маришка?!» Венька и впрямь, словно только теперь разглядел ее: все оказалось в самом деле так. И он возненавидел ее пуще себя.
Будто повторно обвалилась каменная гора и придавила еще одну душу: обида, она ведь и от судьбы, и от людей тоже… И справиться с этой обидой Веньке было не под силу, даже в житейских мелочах: ленился помогать деду по дому, перестал стирать на себя рубахи, охладел к книжкам, все реже и реже плавал он в затоны за рыбой — все легло на остаревшие плечи Авдея. Подворовывая, а то и выменивая у шоферов бензин на рыбу, Венъка с утра до ночи гонял уже по захолодалой воде свою моторку. А когда и она опостылела, обменял ее на дешевенький мотоцикл. Не накатав, однако, и дюжины верст, разбил его — слава Богу, свои кости уцелели. За покореженные останки мотоцикла выменял гитару. Хоть и жаль немалых потерь, Авдей с облегчением перекрестился — об «музыку» голову не расшибешь… Но и тут ошибся старик: завелись совсем другие дружки-компании, пошла и буза другая — вино, забулдыжные песни с матерной сольцой, потасовки до поножовщины и все такое, чего не любит и боится взрослая деревня. А тут, как на грех, добрые люди — карьеровские друзья-товарищи отца и матери — выхлопотали Веньке сиротскую «пенсию» за гибель родителей. Честный по роду и натуре, с чрезмерным усердием он принялся одаривать соприятелей за «дружбу», за прежние «угощения»: иногда платил деньгой, но чаще — вином. И так все глупо и несуразно, не ведая ни счета, ни корысти. Дед Авдей, не в силах что-либо поделать, скрепя сердце, терпел проказы внука и его дружков, терпел, как ниспосланное ему испытание Всевышним.
Читать дальше