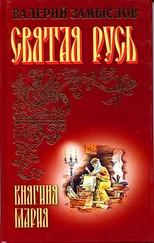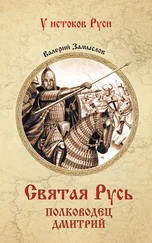Несчастья вослед позорному торгу ордынскому продолжали сыпаться.
Собрали тяжкую дань и данью той передолили тверского великого князя, но во Владимир явился посол лют, родич хана Адаш Тохтамыш, и впору настало не хлеб убирать, а прятать по лесам володимерских смердов от лютого татарского грабления. И не вышлешь посла, как встарь, и не заткнешь рта подарками, и не пригрозишь узорным кованым железом боевых рогатин, дабы потишел и унял зуд прихвостней своих…
Генуэзские фряги меж тем, выручивши князя заемным серебром, совсем обнаглели. На вымолах ежеден — ругань. Московских гостей посбили с причалов, утеснили дозела. Дмитрий, проезжая торгом, каменел ликом. Прост был князь и не вельми учен, но и потому тоже понимал смердов своих и посад до слова. Иногда тяжело спускался с седла, заходил в лавки. «Потерпите!» — говорил. Не объяснял ничего, и — стихали. Ведали — свой, видели — не продает, и тяжко ему, как и всем. Этим вот, простотою, тоже держал землю!
Уже к зиме ближе (в начале ноября Борис Кстиныч воротил из Орды с пожалованьем, и Семен с дядею прибыл. Кирдяпу хан задержал у себя, к тайному удовлетворению Дмитрия), уже и хлеб убрали, и Михайло Тверской, проиграв сражение кожаных мешков, набитых серебром, готовился покинуть Орду, как произошло то, чего где-то в душе опасил все последние месяцы.
Фряги, мало сказать, обнаглели. Не почитали уже почасту повестить московским дьякам великокняжеским, кто и почто прибывает в Москву.
Молодой сын боярский Рагуйло Ухарь пригнал из Красного и прямо на княжой двор. Добился до «самого». Дмитрий принял на сенях.
— Некомат Брех на Москве! Села свои емлет! — огорошил Дмитрия вершник, еще не отошедший с бешеной скачки своей.
— И вы… — темнея ликом, начал князь.
— Дак по грамоте! — Рагуйло аж руками развел. — И ключник не велит трогать… Токмо обидно, тово!
— Ладно. Пожди! — бросил, уже поворачиваясь спиною: — На поварню пройди! Пущай накормят!
Разговор с испуганными боярами был короток. В ответ на то, что фрягов нынче утеснять не велено, да и опасимся, мол, возразил, негромко и страшно:
— А меня вы уже не боитесь? — И возвышая глас: — Умер я?! Сдох?!! — И до крика: — Али мне черны вороны очи выняли?!!
Уже через два часа в угасающих сумерках наступившего зимнего вечера мчались ведомые прежним Рагуйлою вершники, ощетиненные сулицами, потряхивая железом, имать давнего ворога великого князя московского.
Дуня встретила заботная (вызнала уже), глазами, движением рук вопросила: в днешней трудноте не безлепо ли огорчать фрягов?
— Что дороже, — вопросил, уже не в крик, а тяжело и смуро, — серебро али честь? Честь потерять — и серебра тово не нать боле. Не для зажитка живем — для Господа!
Раздевались молча. И, уже когда легли, когда вышла услужающая сенная боярыня, и нянька унесла маленького, и задули свечи в высоком свечнике, и полог тяжелый, тафтяной, шитый травами, шерстями и серебряной канителью, задернули, вопросила негромко:
— Вспоминаешь Ивана?
Дмитрий, еле видный в полумраке мерцающего лампадного огонька, кивнул, не размыкая глаз. Долго спустя (Евдокия уже не ждала ответа) отмолвил:
— Все было правильно… А токмо своих губить не след! Эту вот мразь надобно давить! Чтобы Русь… — не договорил. Дуня поняла, робко, едва касаясь пальцами, огладила дорогое лицо. Такой вот, как теперь, был он ей дороже всего. Многие слабости мужевы ведомы ей были. А любила все равно. И гордиться ей было чем. В такие вот мгновения, как нынешнее. Не мог он, понимала с тревожною теплотою в сердце, не мог, казнив родича, Ивана Вельяминова, благородного мужа, которого любила вся Москва, пощадить, хотя бы и ради всех прехитрых расчетов ордынских, пощадить теперь фряжского негодяя, подговорившего некогда Ивана изменить князю своему.
Некомата привезли ночью, перед рассветом. На заре явилась в терем целая депутация фрягов с настойчивой просьбой, по существу требованием, освободить благородного мужа Нико Маттеи, который, не бывши подданным великого князя владимирского, не мог быть и изменником ему, а посему заслуживал самое большее высылки в Кафу, ежели князь не мыслит более обращаться к генуэзским гостям торговым за какою-либо помощью.
Князь поначалу не восхотел принять фрягов, но все же был умолен боярами выйти и выслушать их доводы. Он вышел, выслушал. Глядя слепо сквозь и мимо них, спокойно и твердо возразил, что великий князь московский волен казнить недругов своих, не прощая разрешения на то у кого бы то ни было из государей или господ иных земель. А русские вымола ниже Яузы, безлепо занятые фрягами по осени, как и тамошние анбары, велит очистить тотчас, не стряпая, и впредь прошать о всем подобном княжого дьяка. Сказал и, не слушая боле ничего, покинул покой.
Читать дальше