Сак, ускакав на полхатра вперед, затаивался, бил вырвавшихся из-за поворота преследователей в лоб и пропадал вновь. В тесной лощине персы не могли ни развернуться, чтобы обойти неуловимого лучника сбоку, ни повернуть назад.
Да никто и не помышлял вернуться: гонка разгорячила людей, сердца взыграли, глаза налились кровью — нет, не уйти тебе, сак!
Целый день длилась охота.
Персы пересаживались на заводных коней, загоняли их до смерти, меняли вновь, а неутомимый вороной знай себе скакал легко и плавно, точно резвящийся на лугу жеребенок.
— Разве это конь? — зароптали персы. — Не конь — оборотень. И не человек на нем сидит, а неуязвимый дух пустыни. Видите, их даже заколдованные стрелы не берут! Они заведет нас прямо в ад. Остановимся, пока не поздно!
Откуда было знать персам, что перед ними — лучший стрелок на лучшем в Туране скакуне? «Черной молнией» назывался этот удивительный конь у саков.
Остановиться?
Куруш и слышать не хотел об остановках. Вперед! В ад, так в ад!
Хугаву настигли к вечеру, когда «Черная молния» вконец истратила силы, а «Волшебный лук» расстрелял боевой запас до последней стрелы.
Настигли, навалились, вцепились.
Потом спохватились — ведь царь приказал взять «собаку» живым!
Спохватились, но поздно — Хугава, пронзенный двадцатью мечами, умер.
С безоблачного неба пел ему прощальную песню жаворонок, теплый ветер расстилал над его головой белые хвосты ковылей.
Ковыли. Ковыли. Ковыли…
Нет воды в пустыне, а вы растете.
Не кровью ли павших вы живы, ковыли древние, ковыли седые, ковыли, трепещущие на ветру?
Куруш сгоряча зарубил топором пятерых телохранителей — самых быстрых, самых удачливых, первыми догнавших сака. Они старались ради награды — они получили награду. Во имя Ахурамазды, мудрейшего из божеств. Аминь.
— Где же это мы очутились? — проворчал Куруш, отбушевав и успокоившись.
Персидское войско находилось в огромной круглой котловине, окаймленной со всех сторон голыми каменистыми холмами, похожими на прилегших отдохнуть двугорбых и одногорбых верблюдов. Из котловины был один выход — та узкая лощина, что пролегла от пустыни в сердце гор, точно след исполинской змеи.
— А где обоз, где повозки с едой, водой и стрелами? — вопросил царь. — Отстали?..
И догадались черные птицы из стран заката, что зарвались и в горячке влетели прямо в сеть, в хитро расставленную ловушку.
— Назад, в лощину! — крикнул Куруш.
Персы ринулись назад.
Но из устья лощины в них ударил такой густой вал тростниковых стрел, что выход из котловины был тут же завален горою конских и человеческих трупов.
Затрубили рога.
Зазвучала, перекидываясь от отряда к отряду, краткая, резкая, лающая команда.
Пехотинцы бросились к краям котловины, упали на правые колена, прикрылись большими щитами и выставили вперед длинные копья. Их тройной непробиваемый круг охватил всю котловину.
Внутри этого плотного круга тут же образовался новый — из босых и полуголых пращников и пеших стрелков.
Так, примыкая изнутри кольцо к кольцу, в несколько мгновений изготовились к бою щитоносцы, легкая конница лучников, тяжелая конница копейщиков, закованные в медь секироносцы — телохранители царя царей.
И в самой середине, как паук в паутине, затаился, усевшись на барабан, Куруш.
Стемнело. Холмы слились в один черный и сплошной круговой силуэт, подпирающий зубцами и выступами темно-синий котел неба.
Саки не нападали.
Персы не разжигали огней, чтобы не осветить себя для сакских стрелков, и котловина казалась холодной ямой, темной пропастью без дна, уходящей в глубь земли и ведущей прямо в потусторонний мир.
Только в просторном шатре, разбитом для царя и его советников, пылал большой факел. Телохранители старательно завесили вход, чтобы свет не вырывался наружу.
Молчание.
Такое, какое бывает в недружественном оазисе в те первые мгновения, когда чужое племя, только что завершив трудный переход, останавливается в тени финиковых пальм, и кочевники, отряхнув с ног красную пыль, садятся у родника передохнуть.
Они еще не кинулись к воде. Вода не уйдет. Не спешат разгружать верблюдов. Успеется. Просто сидят и молчат. В усталых глазах удовлетворение, слабые улыбки — долгий путь окончен. И в тех же глазах уже сквозит тревога — как встретят их жители оазиса? Не напрасно ли дети пустыни тащились в этакую даль? Не лучше ли было бы остаться там, откуда они явились?
Но тревога эта еще смутна, неясна — люди отмахиваются от нее, как от мухи. Будь что будет. Поздно о чем-либо сожалеть. «Если вода дошла до носа, уже безразлично, поднимется ли она выше…»
Читать дальше
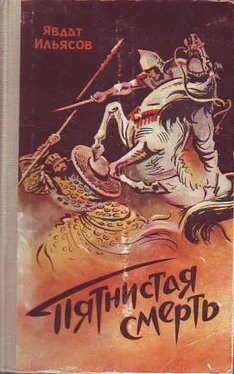






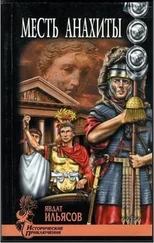


![Явдат Ильясов - Исторические романы и повести [Книги 1-9]](/books/415171/yavdat-ilyasov-istoricheskie-romany-i-povesti-knigi-1-9-thumb.webp)
