— Вот так мясо! Чистая филея! Ни жилки, ни хрящика!.. — Он проглотил последний кусок, утер губы рукой и спросил: — А у вас, дяденька, семьи, что ли, нету, что меня кормите?
— Холостяк, братец, считай, уже навек, — отвечал Иванов. — Кушай на здоровье. Видно, и харч у англичанина не жирен?
— Какое! Впроголодь который год! — махнул рукой Поляков.
— Повар у его, что ль, много ворует? — удивился Иванов.
— Жадюга он, вот что! Полушки на нас считает, а сам кажный месяц червонных мешок сдавать возит в банку какую-то, откуда их в Англию отправляют, чтобы там его дожидались. Ей-богу, не вру, — перекрестился Поляков. — Ведь за каждый здешний портрет, — он кивнул в сторону галереи, — по тысяче рублей гребет, а больше половины их я да еще один подручный написали, и он их кистью раза не тронул. Как пришлют откуда портрет, чтобы тут с него копию в нужную препорцию снять и в галерею поставить, то все нам передает, а денежки ему казна сполна платит, будто с натуры сам писал. Ведь многие генералы, которые в отставке, старые, раненые да больные, разве станут ради одного портрета кости по дорогам ломать? Вот и шлют из Малороссии, с Волги, с Дона, из Астрахани и Киева, там кому попадя заказанные. А мы здесь за мистера Дова стараемся… — Поляков вдруг осекся, опасливо оглянулся и зашептал: — Только вы, дяденька, молчок, что я сказывал. Сам не знаю, чего разболтался.
— Не бойся, не мое то дело, — успокоил его гренадер.
А на другой день он увидел самого английского живописца, пришедшего в Военную галерею в сопровождении Полякова. Через несколько минут из Эрмитажа к ним подошли два пожилых барина в вицмундирных фраках. Их Иванов не раз уже видел в дворцовых помещениях всегда вместе, переходивших от одной картины к другой, что-то при этом записывая. Один был пощеголеватее и, видно, старше чином, с анненским крестом на шее. Другой старее, в очках, и от него всегда несло скипидаром и нюхательным табаком.
Через несколько минут, снова войдя в галерею со стороны Белого зала «дежурным», неторопливым шагом, гренадер услышал, как старший по чину господин что-то раздраженно говорил англичанину, указывая на портреты и часто повторяя слова: «Trop sombre!.. La couleur est a refaire…» [1] Слишком темно. Цвет надо изменить (фр.).
Потом чиновники ушли, а Дов двинулся по галерее с Поляковым, тыча пальцем и будто лая:
— Сымать! Справлять!
Когда, оставив Полякова в галерее, он уходил на Комендантский, Иванов задержался в Предцерковной и хорошо рассмотрел ровно желтое, сухое лицо с холодными серыми глазами и большим, выставленным вперед подбородком, как у деревянных щелкунов для орехов, которые не раз видел у немцев и французов во время заграничного похода. Это лицо, накрепко подпертое белоснежными воротничками сорочки и атласным черным галстуком, ничего не выражало, кроме надменности и брезгливости.
Дову фрунта не сделал — как стоял вольно, вполоборота к дверям Статс-дамской, когда заслышал его шаги, так и пропустил мимо себя. Не дождешься от меня чести, жадный паук!
Сегодня в кармане гренадера снова лежал хлеб с вареным мясом, которые передал молодому живописцу, когда собирались вместе нести стремянку в галерею. Но только начал было жевать, как по бледным щекам побежали слезы.
— Ну что, братец, рюмить? — утешал его Иванов. — Нашему брату все стерпеть положено.
— Да я ничего, — дергал мокрым носом Поляков. — Прошибло, что вы мне все кушанье носите… Да еще нонче выше краю на Дова обидно: шутка ли, до сорока портретов почти что заново писать, которые он сам или мы с Голике, по его приказу краски подбирая, лет пять уже назад зачернили! Давеча господин Лабенский, которые всеми картинами здесь заведуют, и реставратор Митрохин его справедливо укоряли, что многие портреты за такой краткий срок чернотой оделись от приверженности Дова к асфальте — краска такая смолёвая есть. «Что же дале будет, когда в Англию уедете, все деньги получивши? — должно, его спрашивали. — У других живописцев по сту и более лет будто вчера писано, а тут через пять лет как в печи копченные…»
— Так зачем он такую краску потребляет? — удивился Иванов.
— Затем, что по-первости она и верно красивая, — ответил живописец. — Только потом делается ровно уголь, проклятая. — Он утер глаза тыльной стороной ладони, сунул хлеб за пазуху и, взявшись за стремянку, добавил вполголоса: — Мошенник, право, мошенник! Но уж, бог даст, доберутся до тебя добрые люди…
— Да ты не спеши, покушай толком, — сказал гренадер. — Я пока свой пост обойду, а как вернусь, то и понесем.
Читать дальше
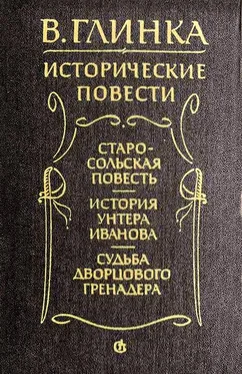
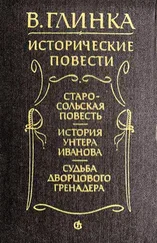
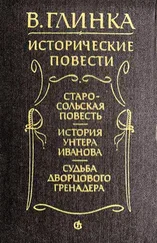
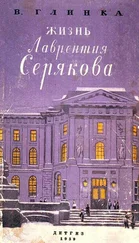



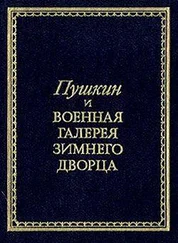
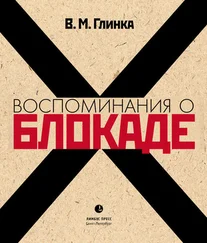
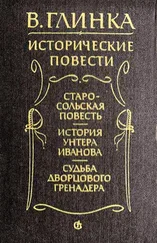
![Владислав Жеребьёв - Судьба Бригадира [litres]](/books/433682/vladislav-zherebev-sudba-brigadira-litres-thumb.webp)