— Пойдем, матушка, хоть куда хошь.
Едва угомонились в сумерках. Предлагали лечь на печке или на полатях, но попросился в сени на рундук с зерном, где посвежей.
Михайло набил горой сенник, покрыли холстиной, взбили подушку, братняя дочка Матрена принесла одеяло чистое, крытое китайкой, стеганное на вате — приданое какой-то Агаши, видать, разу не стеленное. Улегшись, подумал: «Матрена Сергеева дочка, а Агафья чья же?.. Голова кругом, не рассмотрел всех. Михайловой Степаниды будто не видел. Ну, ужо разберусь…»
Хотел было отцу сдать черес, да пока постель в сенях готовили, старик заснул на печи. Завтра, все завтра успеется. Радуйся нонче, что добрался!
Ночью слышал, как горланили петухи, как за стенкой переступали и вздыхали коровы. Переворачивался на другой бок и опять засыпал еще слаще, вспомнив, что ночует в отчем доме.
Когда встал, никого в избе не было, кроме бабушки и племянницы Катерины, молчаливой, темноликой, что орудовала у печки. Потом прибежали вчерашние мальчик и девочка, брата Сергея внуки, ребята той самой Агафьи, чьим приданым одеялом покрывался. А она, сказали, из Рождествена взята, от своего барина выкуплена для братнего младшего.
Ну, наконец-то будто с домашними разобрался. Дал ребятам пряников из привозных гостинцев, и убежали куда-то.
Умылся, побрился, поел лепешек со сметаной, обрядился, и пошли с матерью в Епифанский собор. Она поверх сарафана надела черную кофту с медными пуговками. Он — в вицмундире с крестами и медалями, в шляпе с черным султаном, при сабле.
По Козловке шли молча, рядом. Все им кланялись, кто попадал навстречу или выглядывал в окна. Когда вышли на стежку вдоль Дона к Мельгунову, где мост перейти, матушка сказала:
— Ну, говори про дочку свою, звать-то как?.. Жену Михайло много одобрял. А девочка здоровая ли? В городах, слух идет, ребята все больше тощие да лицом белые. Молочко пьет ли?
Иванов рассказал про Машу, о том, что лицом круглая и румяная, как любит ежа и котенка, просила привезти живого зайца, и матушка, улыбаясь, кивала головой, приговаривая:
— Ох, милушка моя!..
Тут унтер сказал, что привез столько денег, что надеется всех выкупить на себя, а потом и совсем на волю отпустит.
— Да где ж деньги у тебя? — ахнула матушка.
— На себе, в чересе ношу. Нонче деду отдам на сохран.
— А откуль же взял столько? Солдатов, сказывают, таково голодом морят, что кажну копейку на харч берегут.
Рассказал про годы мастерства, про теперешнее большое жалованье, что и жена — рукодельница, на продажу искусно шьет.
— Ох, Санюшка, что нас-то с дедом ослобождать? И так доживем. Лучше бы деньги Маше своей в приданое сберег. Жена не перечила, что за тем сюда поехал?
— Жена как душа одна со мной, — ответил унтер. — Выкупить всех хочу, матушка. На то двадцать лет трудов положено, а Машино приданое дале копить начнем. То второе наше дело…
Медленно идя в гору по дороге, сын прикидывал, сколько же лет его родительнице. Понятно, за семьдесят. Он младший из братьев, Яков, кажись, на десять лет его старе. А зубы у нее никак все целы. И отец хоть сгорбатился, а как охватил его вчера! Видно, и правда здоровей в деревне жить. Только Анюта сюда и под старость не поедет. Городская она. А сам поехал бы?..
Когда шли через площадь, встречные пялили глаза на форму и на ордена Иванова, многие ему кланялись. Обедня только что отошла, и богомольцы выходили из храма. Сказал старосте, считавшему выручку у свечного ларя, что просит отца протопопа отслужить молебен Николе, и подал пятирублевую ассигнацию.
— Сейчас доложу отцу Димитрию, ваше благородие, — закивал староста, косясь на крестьянское обличье Анны Тихоновны.
Собор богатый, купцы не пожалели денег — много лепнины, еще больше росписи и позолоты. Пол из чугунных гулких плит с узором, по которым шаги старосты были слышны до самого алтаря.
Возвратившись, сказал, что отец протоиерей сейчас снова облачится и просит передать его благородию, что ежели с полным причтом и хором, то надо бы вторую синенькую пожаловать.
— За тем не постою, но чтоб без спешки, — сказал Иванов.
— Со всем благолепием, — заверил староста.
Матушка зашептала, что без хора обойдутся, но унтер сказал:
— Тридцать почти лет разлуки нашей. За радость такую пришли угодника благодарить. Гляди, и солнце в купол ударило…
Подошли к самому амвону и встали под любопытными взглядами певчих перед одетым в серебряную ризу Николой. Из алтаря слышались шаги и прокашливание. Только все смолкло, как сзади застучала частая походка, и, обернувшись, увидели Ивана Ларионыча в сапогах и чистом кафтане. Не выдержал, бросил молотьбу. Лицо умыл, волосы и бороду расчесал.
Читать дальше
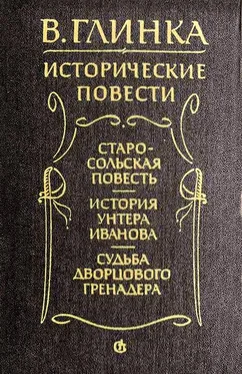
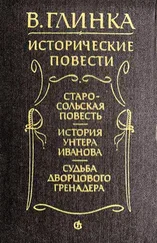
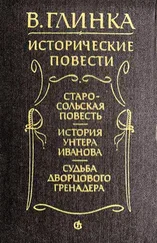
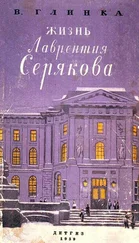



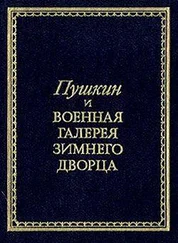
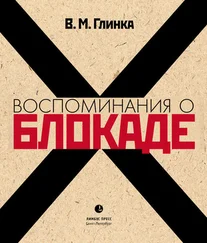
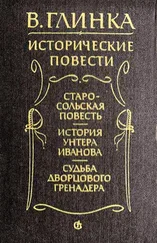
![Владислав Жеребьёв - Судьба Бригадира [litres]](/books/433682/vladislav-zherebev-sudba-brigadira-litres-thumb.webp)