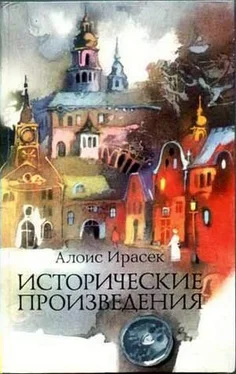Наступила томительная и долгая зима.
Козина непрестанно спрашивал тюремщиков о старом дяде и просил пустить его к нему. «Старик болен, и ему становится все хуже и хуже», — это Козине сказали, но пустить к нему не пустили. Козина хорошо понимал, что с ним обращаются в тюрьме очень строго, что с другими, настоящими преступниками, так сурово не обращаются. Он понимал, что виновник его несчастия, как и всех ходских бед — был все тот же Ламмингер. Кровь в нем так и кипела, и когда иной раз он представлял себе, что было бы, если бы тргановский пан вдруг вошел к нему и предложил свободу с тем, чтобы он отрекся от своих убеждений и признал, что ходские права потеряли силу, он чувствовал, что ответил бы ему решительным «нет», бросил бы это «нет» прямо в лицо бесчестному палачу и выдержал бы его угрожающий, злобный взгляд, как и в тот раз, когда пан явился в Уезд за старинными грамотами.
В теплый мартовский день сторож вывел Криштофа Грубого из камеры на тюремный двор. Старик был очень слаб и не мог ходить. Он тотчас же опустился на грубо сколоченную скамью, стоявшую на солнечной стороне двора. Драженовский староста заметно исхудал и осунулся. Он начал хворать еще когда заседал апелляционный суд, а тюрьма и беспокойство о доме доконали его. Опустившись на скамью, Грубый вытянул ноги и, сложив на коленях руки, уставился в безоблачное сияющее небо, которого он так давно не видал. Но уже через минуту Грубый закрыл глаза и голова его склонилась на грудь. Так он сидел, не шевелясь и думая свою думу, и только изредка вздрагивал, когда его мучил кашель. Вдруг он поднял голову: на землю перед ним упала тень.
— Ну как, старина? — спросил его какой-то важный пан в темно-коричневом кафтане, в черных штанах и чулках, с тростью, украшенной серебряным набалдашником.
— Плохо, ваша милость, — ответил старый ход. — Еле ноги волочу. Силы, как вода, уплывают. Сперва хоть сон был, а сейчас… И ломота в костях… От этого и худею.
— Не унывай, старина. Я тебе дам порошки.
— Эх, ваша милость, аптека уже не для меня. Не пережить мне весны. Да оно и лучше.
— Ну, старина, что это ты умирать собрался? Ведь мир прекрасен.
— Это правда, ваша милость, когда человеку хорошо живется… А нашему брату…
— Ничего, как-нибудь перетерпишь.
— Не думаю, ваша милость. А если бы даже… так лучше пусть бы со мной сделали, что хотят, только бы нам отдали наши права. А их не отдают… Вот то-то и оно, ваша милость…
Старик бессильно махнул рукой и затрясся в приступе жестокого кашля. Врач с состраданием глядел на него. Наконец, кое-как отдышавшись, Грубый поднял глаза на врача и спросил:
— Ваша милость, если уж вы так добры, так не скажете ли мне, что с тем парнем, с Козиной?
— С Козиной? Ничего. Стоит на своем. Видно сразу, что в вас течет одна кровь. Эх, вы, глупые! О чем вы только думаете? Почему не покоритесь?
Грубый покачал своей седой головой.
— Нет, нет, пан доктор, об этом лучше не говорите… А вот как он — не болеет?
— Козина? Нет, — сухо ответил врач, несколько задетый непримиримостью старого хода, и повернулся, собираясь уйти.
— Еще об одном попрошу, ваша милость, — задержал его Грубый. — В какую сторону отсюда наш город Домажлице?
Врач удивленно взглянул на старика.
— Зачем тебе?
— Да так… чтоб смотреть на небо, что в нашей стороне, над нашим краем…
Врач посмотрел на солнце и, махнув рукой, сказал:
— Вон там, в той стороне Домажлице и этот ваш несчастный край, упрямцы.
Голос его, однако, звучал уж не так резко. Уходя, он еще раз оглянулся на старого хода. Тот пристально смотрел на небо, под которым вздымались Шумавские горы, где лежала его несчастная родина, за которую он страдал и которой были посвящены все его помыслы.
Выйдя из-под сводов новоместской ратуши, врач встретил советника апелляционного суда Пароубека, который спросил, куда он ходил. Доктор сказал, что он проведывал старого хода.
Доктор права Пароубек заморгал своими косыми глазами.
— Знаете, как выразился о нем и о его племяннике наш советник Кнехт? — спросил Пароубек. — Он сказал: «ЕсЫег ЬоЬт-18Й1ег БгсЬзсЪайеЬ» [11] Настоящий твердолобый чех (нем.).
, и при этом поглядел на меня! — и Пароубек осклабился так, что все морщины у него собрались под левым глазом. — Они и впрямь неподатливы. Скорее отдадут себя на растерзание, чем откажутся от своей веры в ходские права. Этот Козина говорил, — зачем, мол, мы требуем, чтобы он отказался от старых прав, если они все равно потеряли силу? А я, говорит, поступаю по совести и иначе не могу.
Читать дальше