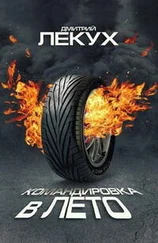Каломель не могла знать, о чем говорилось на совете, и чем завершился совет. Вероятно, по мужу своему видела: тучи, что окружили Завергана, громоздятся, прежде всего, над ним. А впрочем, только ли над мужем? Кметы вон, какие яростные и угрожающие были, когда уезжали из стойбища. Или такая, как его Каломелька, не успела заметить этого? Или такое, как у его Каломельки, сердце не способно почувствовать: ей, утигурке, не прощают утигурского вторжения, на нее метают громы и угрожают местью-наказанием.
Небо всесильное, Небо всеблагое! Что же ему сделать и можно ли теперь сделать что-то, чтобы и кметы угомонились, и жена прогнала из сердца страх? Она с такой верой и доверием смотрит на него, столько смирения и надежды в полных грусти глазах, а страха и жалости еще больше. Где не бывает, что не делает — не может прогнать из сердца ни того, ни другого. Иногда так сердце разволнуется в ней, кажется, упадет на колени, протянет руки и крикнет голосом обреченным: «Ты один, кому я верю, на кого уповаю и могу уповать в этом жестоком мире. Защити, не дай в обиду!»
Что же будет, если Тенгри отвернется от него и не вразумит кметей? Чем он утешит тогда свою Каломель, на чью сторону встанет, как будет выбирать между ней и кметями?
— Утешь меня, жена, — терзался вслух. — Хоть как-то объясни мне, почему отец твой так плохо обошелся с родами нашими, с тобой, наконец? Или он не знал: такого не прощают, за такое рано или поздно придется расплачиваться?
— Если бы я знала.
Как подняла на него смиренно-тихий, на что-то ожидаемый и страшащийся от этого ожидания взгляд глаз своих, так уже и не убирала его. Уверяла, что до сих пор не может поверить, что нападение учинили утигуры, ее родичи и утешала теми заверениями сердце, жаловалась на отца, который, если это правда, не может более называться отцом ее, вместо того, чтобы предохранить свою дочь, стал для нее той карой, которая равна погибели, — и заставляла верить: она не виновата в случившемся. Отец, как и всеми кутригурами, пожертвовал ради какой-то высшей, чем кровное единство, и тем уже подлой из подлых, цели; делилась наивными, как незамужняя жена, мыслями: если хан позволит, она отправится в сопровождении его людей за Широкую реку и спросит своего неверного отца, зачем он совершил такое, скажет ему, пусть вернет все, что взял, но только раздражала той наивностью.
— Не надо было отдавать, Каломель. Того, что взяли у нас, никто не вернет. Народ давно ушел на сарацинские торги, скот разобрали кметы и роды, возглавляемые кметями.
Опять смотрела на него доверчиво-умоляющими глазами и спрашивала: «Что же теперь будет? Скажи, хоть какую-то надежду подай, потому что нет сил видеть нескрываемые злые взгляды родичей твоих, и знать: живешь среди недругов. Я же не виновата в том, что произошло. Клянусь Небом: не виновата!» Но что он мог сказать на эти взгляды? Что он, хан, верит, что ее вины нет, что она страдает безвинно? А будет ли сказанное им утешением Каломели? Пусть не удивляется и не спешит возражать: так не будет. Он и сам до сих пор полагался на то, что хан — большая сила в кутригурском племени, его слово и его повеление — закон для всех, а отныне вынужден, если не отказаться от своей уверенности, то усомниться в ней. Так как есть еще кметы в родах, и есть роды в племени. Пока они с ханом, до тех пор и хан чувствовал под собой твердость, а уйдут — и твердь может пошатнуться. Или Каломель догадывается, что тогда будет с ним и с ней, когда пошатнется?
Только теперь уверовала, возможно: и муж не возьмет ее под защиту. А уверовав, угасла. Побледнели и без того бледные щеки, вспыхнул судорожно и потух живой еще огонек в глазах. Всего лишь на мгновение опустила их, разочаровавшись в хане или стесняясь хана, а подняла на минуту — и не заметил в них ни веры-надежды, ни смиреной привязанности. Лишь печаль осталась печалью, и сожаление заискрилось мощнее.
— Ты, как и они, в гневе на меня?
— Не в гневе, Каломелька, однако и радоваться или надеяться на радость не вижу оснований. Кметы, даже те из них, которые были верными, отреклись от меня сегодня и отказались из-за тебя.
— О, Небо! — простонала и закрыла свое лицо руками. Сжалась, ожидая занесенного над ней удара, и плакала. Она плакала, однако, жалко и по-детски надрывно.
Ведь чем могла еще она облегчить боль? Уверена была: все-таки погас он, последний луч ее надежды. Теперь у нее ни здесь, в кутригурах, ни за кутригурами не на кого опереться, даже верить, что опора-защита возможна. А без этого, что остается делать в мире, кроме как плакать и жаловаться на жизнь?
Читать дальше