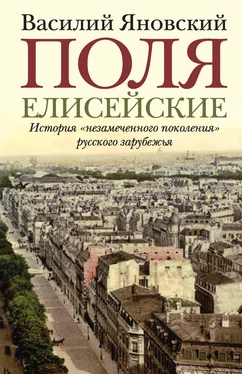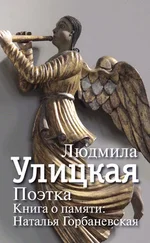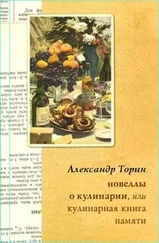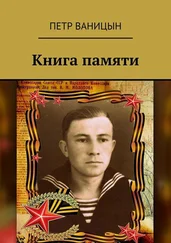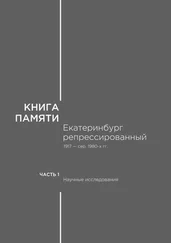Неслучайно относительно недавно опубликованные фрагменты из дневников Яновского поражают обилием ламентаций вроде: «Опять на распутье. Печатаю отрывки “Заложника”. Ни отзвука» (26 января 1961 года); «Год как дал Гулю роман – нет ответа. Господи, покарай хама!» (19 декабря 1962 года); «Гуль позвонил вечером. Отказал печатать “Корнея Ямба”. Что же это такое?» (1 октября 1963 года); «На каком языке писать? Для какого читателя? Для какого издателя?» (22 февраля 1964 года); «Нищета, негритянки: не хотят платить. Статейка моя тоже брошена мне назад в морду… Роман швыряют назад. Русский писатель без языка, без читателя, без издателя. Американский доктор среди бушменов; христианин без благодати. Хочется отстраниться (навсегда и от всего!)» (30 июля 1964 года) [25] .
Вероятно, творческие неудачи Яновского были обусловлены не только внешними причинами – эстетической глухотой издателей и главного редактора «Нового журнала», кознями завистников, отсутствием «культурного русского читателя» и проч., – но и сугубо внутренними: слишком часто проповедник и мыслитель, устремляющийся к горним высям, брал в нем верх над художником; слишком часто в его романах (в том же «Заложнике») автор увлекался философскими отступлениями, напрямую не связанными с сюжетным действием; слишком часто под их грузом «рвалась ткань искусства» (вспомним давний упрек Адамовича), и сквозь нее проступали жесткие умозрительные схемы, и герой в очередной раз уходил за пределы литературы, держа в руках Евангелие или томик Федорова. «По временам кажется, что Яновскому хочется смести все границы между наукой, верой и искусством, синтезировать их, создать из них нечто единое, целое, неделимое. В “Заложнике” это оказалось ему не под силу» [26] , – диагноз, данный в рецензии В. Завалишина на злополучного «Заложника», применим и к романам Яновского, опубликованным на английском языке.
В шестидесятые годы, убедившись в полном отсутствии «своего» русского читателя, он, по примеру Владимира Набокова, попытался завоевать американского читателя и опубликовал англоязычный перевод романа «По ту сторону времени», ранее отвергнутого Романом Гулем. Ни этот роман, ни последующие книги – романы “Of Light and Sounding Brass” (N.Y., 1972; русская версия – «Ересь нашего времени» [27] ) и «Великое переселение» (The Great Transfer. N.Y., 1974), документально-публицистические книги «Темные поля Венеры [28] . Из записок врача» (The Dark Fields of Venus: From a Doctor’s Logbook. N.Y.: Harcourt, 1973) и «Медицина, наука и жизнь» (Medicine, Science and Life. N.Y, 1978) – сенсацией не стали и имели весьма умеренный успех у американских читателей. Как признался в одном из интервью сам Яновский, его книги были «не в их духе, не в их потоке. Они крутят этот объект или субъект, который я фабрикую, они сомневаются, роман ли это, рассказ ли это, то, что я пишу, что с ним делать, есть ли его, нюхать ли?» [29]
Завоеванию американского рынка не помогли и хвалебные отзывы даже такого литературного гуру, как Уистен Хью Оден (Яновский не только дружил с ним, но и был его лечащим врачом) [30] .
Главная причина неуспеха, как и прежде, заключалась в неумении гармонично соединить образно-символический язык художественной прозы с глубокими мировоззренческими обобщениями и памфлетно-публицистическими отступлениями на животрепещущие социально-политические и нравственно-философские темы. Завороженный метафизическими безднами и увлекательными философскими теориями, уверенный в том, что «проза должна все время загибаться в другую, чуждую ей среду» [31] , автор часто забывал о достоверных сюжетных мотивировках и психологически убедительных характерах – без чего романы рассыпались и превращались в иллюстрацию того или иного философского тезиса.
Обладая острой наблюдательностью, способностью к анализу и философским обобщениям, Яновский упорно стремился реализовать свой творческий потенциал в рамках романа, в то время как его таланту были соприродны средние и малые жанровые формы: повесть, рассказ, эссе, очерк – особенно последние два, выходящие за пределы «литературы вымысла». Яновскому не хватало воображения для того, чтобы
выдумывать запоминающихся героев, зато он обладал даром подмечать их в действительности и удивительной памятью; недостаток фантазии он компенсировал способностью детального воссоздания виденного, а также глубиной и силой переживаний, напряженным лиризмом. Неслучайно его лучшие вещи – дебютная повесть «Колесо», «Портативное бессмертие» и опубликованная в 1957 году повесть «Челюсть эмигранта» (Нью-Йорк) построены на автобиографическом материале.
Среди послевоенных произведений Яновского повесть «Челюсть эмигранта» занимает особое место: в ней были выработаны композиционные и повествовательные принципы его прославленных мемуаров «Поля Елисейские».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу