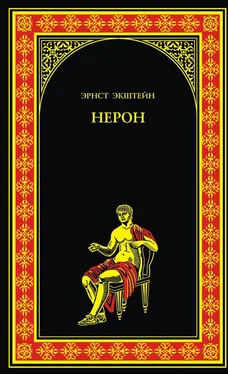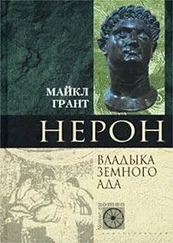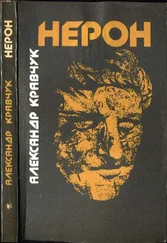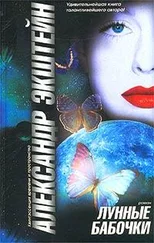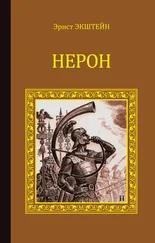В строгом смысле заговор этот был лишь продолжением заговора, возникшего вначале против невыносимого честолюбия Агриппины. Но с течением времени обстоятельства приняли такой оборот, что император, в чью пользу должна была быть свержена Агриппина, сделался сам главным предметом тайных враждебных замыслов. Только Бареа Сораний и Тразеа Пэт держались в стороне, не считая этот момент удобным для успешного возмущения.
Сенека же, так ревностно участвовавший в планах против импе-ратрицы-матери, на этот раз, по весьма понятным причинам, не был посвящен в тайну заговорщиков.
Положение его и без того было странное. Спокойно, почти мрачно, занимался он государственными делами. Нерон предоставил ему управление, но запретил философу вмешиваться в свою частную жизнь. Агриппина, по-видимому, отказалась от всякого влияния. В действительности же, она ожидала первую возможность ошеломить сына и снова овладеть кормилом правления. Фактически царствовала Поппея Сабина, ибо Сенека, которому она оказывала величайшее уважение, убедил самого себя, что ей следует угождать для того, чтобы впоследствии снова привлечь к себе, позабывшего по ее вине всякую философию императора. Льстивость хитрой, расчетливой женщины ослепила его разум. Он считал ее возвышенной натурой, и так как пропасть между Нероном и Октавией все-таки казалась непроходимой, то его стоически строгая совесть успокоилась.
Люций Менений открыл совещание кратким, почтительным приветствием союзников, а затем сдержанным тоном продолжал:
— Ясно как день, что все мы обманулись в цезаре Клавдии Нероне. С квиритами случилось то же самое, что с курицей баснописца, высидевшей хищную птицу. Сначала она принимает ее за цыпленка, а потом с ужасом примечает, как у молодого коршуна вырастают когти.
— У молодого стервятника! — фыркнул Фаракс.
Люций Менений с улыбкой покачал головой.
— К сожалению, это не так! — с горечью сказал он. — Он терзает не мертвых, но живых. Мы сами — его жертвы. Он пьет кровь Рима, чтобы обновить свои силы, нужные ему для его фантастических полетов. Повторяю: мы жестоко обмануты. Сенека, знающий его с детства, должен был бы давно уже понять его. Тут нужна была страшная, железная энергия. Остроумными философствованиями нельзя искоренить врожденную распущенность. Я почти готов признать его соучастником, виновным во всем несчастье, в особенности теперь, когда он молча смотрит на всевозрастающую власть бесстыдной Поппеи. Конечно, эта злодейка и есть причина всяких низостей. Агриппина побеждала преступлениями, Поппея царствует посредством ухищрений разврата. Мне даже кажется, что из них двух я предпочитаю императрицу-мать…
— О, о! — воскликнул Флавий Сцевин.
— Прости… но жертве Агриппины трудно быть беспристрастным, — сказал стряпчий. — Прежде, с Агриппиной у кормила правления, Нерон хоть соблюдал приличия. С тех пор как его опутала Поппея, он безжалостно топчет ногами все священное. Расточительность его граничит с безумием. Он открыто насилует справедливость для пополнения своей вечно пустой казны. Он позорит себя, выступая то как актер, то как борец, то как возница в цирке…
— Не ставь ему в укор эти мелочи; к несчастью, за ним есть довольно крупных проступков! — прервал его Флавий Сцевин. — Если он играет комедии или борется, то это еще можно извинить. Нерон скорее грек, нежели римлянин. Он вырос на Софокле и песнях Гомера. Он живет мечтой, что все, совершавшееся ахейцами перед Илионом, позволительно и в Риме. Если некогда Одиссей и Аякс боролись за серебряный треножник, то сын Агриппины полагает, что это прилично и ему. Все это еще сносно. Нужно принять во внимание его пламенное воображение и страсть ко всему блестящему и сказочному. Но другое, большее!.. Право, Менений, в этом отношении, при всем твоем красноречии, ты не найдешь удовлетворяющих меня выражений! Ты упомянул о вопиющих нарушениях прав, о позорных государственных процессах, превращающих каждого гражданина в игрушку коварных доносчиков. Я дрожу от негодования при одном напоминании об этом. Но что еще сильнее возмущает меня — это низкое поведение цезаря относительно Октавии. Эта мысль заставляет меня мучительно краснеть, пальцы мои судорожно сжимаются, словно стремясь схватить кинжал мести. И все-таки… какое невыразимое мученье! Друзья, вы не подозреваете, как я любил этого мальчика. Я отдал бы жизнь за него. Он был для меня все равно, что родной сын. И он платил мне глубокой, сильной, трогательной привязанностью… Тем пламеннее ненавижу я его теперь. Нет, я обманываю себя. Флавий Сцевин не может так скоро вырвать укоренившееся в его сердце чувство. Я еще не научился ненавидеть его, несмотря на все мои усилия. Тем справедливее, тем беспристрастнее буду я. Я осуждаю его, как некогда Брут осудил собственных сыновей, и мой приговор гласит: повинен смерти!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу