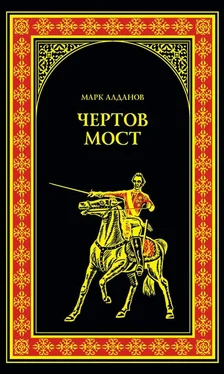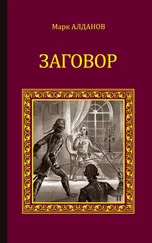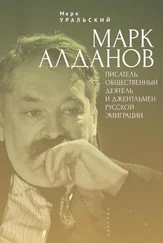Молодой заключенный снова сел.
— Вы, конечно, не верите в загробную жизнь? — спросил он, не глядя на старика.
— Отчего же? Напротив, — поспешно сказал Пьер Ламор. — В бессмертии души нет ничего невозможного. Я остаюсь при «peut-etre» [217] «Может быть» (франц.).
старого умницы Рабле. Разумеется, христианская идея загробной жизни несколько скучновата; я предпочел бы магометанский рай с деревом туба. Но — за неимением лучшего… Впрочем, я мало осведомлен в этом вопросе и даже у вас хотел при случае узнать толком, существует ли Бог или нет. В первое время Революции Бог признавался существующим и рассматривался как умеренный конституционалист. Потом, как вы знаете, была введена религия разума, и в Notre Dame de Paris на алтаре сидела полуголая танцовщица Мальяр, — ее даже на руках носили в Конвент, и председатель обнял разум в ее лице. Я с удовольствием приветствовал новую религию, ибо мадемуазель Мальяр превосходно сложена, а прежде ее можно было увидеть в натуре только за большие деньги. Ведь я имел честь знать до Революции богиню разума: она тогда была на содержании у моего доброго знакомого, герцога де Субиз… Еще позже, кажется, вы предполагали заменить культ разума культом добродетели? По крайней мере, об этом подавал в Конвент петицию только что мною упомянутый маркиз де Сад. Но, если не ошибаюсь, Робеспьер недавно объявил себя деистом. Это, разумеется, совершенно реабилитирует Бога, в революционных симпатиях которого теперь трудно усомниться.
— Если есть загробная жизнь, то мы будем иметь удовольствие видеть издали, как деист Робеспьер жарится в аду, — сказал, мрачно усмехаясь, молодой заключенный.
— Это удовольствие, к сожалению, тоже не вполне нам обеспечено. Ориген Адамантовый утверждал, что все люди непременно спасутся и что адские огни рано или поздно погаснут. Добряк Ориген написал даже в защиту своей ценной мысли шесть тысяч книг. Константинопольский собор предал его анафеме — и очень хорошо сделал.
— Гениальные люди верили, однако, в бессмертие души…
— Верили. Лейбниц думал, что душа человека после его смерти остается в этом мире, но отдыхая от земной жизни, пребывает в состоянии сна и ждет момента пробуждения; ждет она, впрочем, довольно долго: миллиард столетий. Цифра и круглее и больше моих ста семидесяти тысяч лет… Нет, подумайте, — вставил вдруг, засмеявшись, Пьер Ламор, — вы подумайте, как должна была опротиветь Лейбницу жизнь, если он назначил миллиард столетий отдыха! А все-таки старику было страшно сказать: никогда. Ох, нехорошее, нехорошее это слово!.. Ничего нет страшнее его на свете…
Пьер Ламор снова вынул часы и тотчас опустил их в карман, не посмотрев на стрелку.
— Так, значит, по-вашему — никогда? — медленно спросил Борегар.
— По всей вероятности.
— Где же мы будем сегодня вечером?
— Там, где нам будет не хуже, чем здесь.
— Что ждет нас?
— Мы теряем немного.
— Да, вы правы, жизнь ужасна… Смерть — избавление.
— Наконец-то вы пришли к этой здравой мысли.
В камеру тюрьмы внезапно донесся издалека тяжелый, глухой, медный звук колокола. Пьер Ламор вздрогнул и с открытым ртом уставился снизу в небольшое окошко, проделанное в стене у потолка. За первым ударом колокола через мгновение донесся второй. Борегар приподнялся на койке и схватил за руку старика. С минуту оба они, не переводя дыхания, смотрели в сторону окошка. У обоих лица вдруг сделались белее постельного белья. Медные удары повторялись все чаще и тревожнее. Молодой заключенный хотел что-то сказать и не мог. Губы его шевелились невнятно. Старик не услышал вопроса, но понял его.
— Что это? — беззвучным движением рта спрашивал Борегар.
— Это набат! — прошептал Пьер Ламор.
В галерее тюрьмы Консьержери, под звон колоколов набата, совершался последний туалет осужденных.
Их было много: были семидесятилетние старики и был двадцатилетний студент, были вельможи и были паяцы.
Тюрьма обезумела в этот страшный день. К казням привыкли в Консьержери; большие партии людей отправлялись на эшафот ежедневно. Все заключенные знали, что их ждет неотвратимая смерть; увозимым говорили спокойно: «Ваш черед настал сегодня, завтра умрем и мы». И увозимые подавляли в себе зависть к тем, кому судьба дарила несколько лишних дней ожидания казни.
Но в этот день с первым ударом колоколов весть пронеслась по тюрьме: «Восстание!.. Восстание началось в Париже!»
Кто восстал — не знали. Какие-то таинственные, невидимые друзья на свободе боролись за жизнь. Грозно гудели колокола набата. К ним порою примешивался отдаленный грохот барабанов. Иным заключенным казалось, будто они слышат пальбу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу