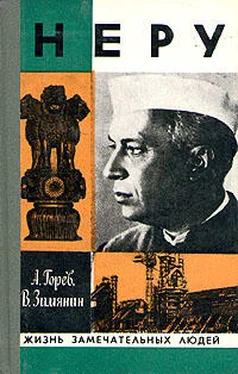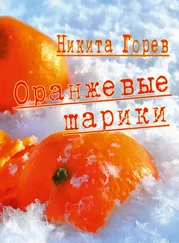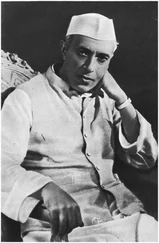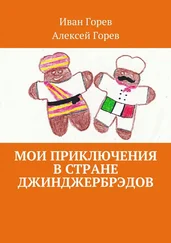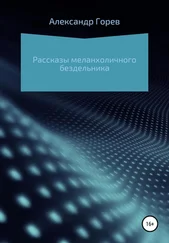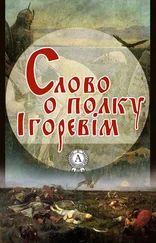Идея возмездия как средства обеспечения прав меньшинств в двух частях разделенной страны казалась Неру варварской, и от одной только мысли о возможности повторения ужасов 1946 года у него леденило сердце.
Курьер принес утренние газеты и почту. Увидев на газетных полосах большое число своих фотографий, Неру иронически улыбнулся: разве только великолепный лорд Маунтбэттен при всех своих орденах и регалиях мог соперничать с ним в этой, как считал Неру, шумной, никчемной рекламе. Впрочем, за парадной трескотней газетных репортажей слышались и возмущенные голоса. Особенно громко звучали они в демократической прессе, которая не проявляла восторга по поводу «личного обаяния» и «дружеского расположения» Маунтбэттена к индийскому народу. Стоит ли умиляться тому, что Маунтбэттен на год раньше намеченного срока «даровал» Индии независимость? «Руководители национально-освободительного движения, — писал журналист Бхагат Ватс, — так и не разгадали за этой спешкой панику, охватившую лондонское правительство. Она свидетельствовала о понимании англичанами главного факта: если не торопиться с «передачей власти», то никакой власти вообще не останется и передавать будет нечего...»
Днем к премьер-министру стали стекаться мрачные сообщения о происходящих в стране религиозно-общинных беспорядках. В Западном Пенджабе мусульмане уничтожают мужчин, женщин и детей, принадлежащих к общинам индусов и сикхов; в Восточном Пенджабе разъяренные толпы индусов и сикхов напали на мусульманские поселения, подожгли дома и убили ни в чем не повинных людей.
Во всех этих событиях снова угадывалась коварная, опытная рука. Газеты обеих частей разделенной Индии писали, что речь идет не о непредвиденной вспышке религиозной исступленности, а о преднамеренных и хладнокровно подготовленных убийствах. Автор одной из статей гневно разоблачал неприглядную роль в этих событиях губернатора Пенджаба англичанина Дженкинса. «В истории Пенджаба он надолго останется как самый бездарный и самый бессовестный из всех тех, кто когда-либо сидел в губернаторском кресле, — говорилось в статье. — Мы не знаем, в какой степени английское правительство санкционировало его политику натравливания пенджабцев друг на друга, но если англичане все еще намерены использовать сикхов как клин для вбивания между Пакистаном и Индией, то лучшего шулера для игры этими крапленными картами они найти не могли».
Министры из Восточного Пенджаба один за другим спешили в Дели. Ошеломленные происходившим, они с безнадежностью докладывали Неру, что теперь, пожалуй, уже ничто не может остановить резню. На вопрос премьер-министра, почему для восстановления порядка не были использованы воинские части, министры в отчаянии отвечали, что на армию, разделенную по религиозному принципу, уже больше нельзя полагаться, и требовали немедленной отправки в Пенджаб более надежных войск.
Маунтбэттен, на чей военный опыт уповал министр внутренних дел Патель, с присущей ему манерой выдавать очевидное за откровение, заявил, что «создалось подлинное военное положение и что нужно действовать так, как надлежит в подобном случае». После чего он направил в Пенджаб пятидесятитысячную армию во главе с английским генералом Риисом. Но тот и не думал наводить порядок: у Англии были свои планы — расчленить Индию, разжечь общинную вражду, вызвать сепаратистские настроения в княжествах и таким образом, ослабив страну, удержать ее в повиновении.
Маунтбэттен, словно забыв о своих заверениях — сохранить мир в Индии, теперь уже утверждал, что генерал Риис не в силах контролировать положение.
И тогда дело восстановления мира между религиозными общинами Неру решительно берет в свои руки. Уже 17 августа он выезжает в Пенджаб и сам содействует предотвращению новых жестоких столкновений общин.
Пенджаб изнемогал от пролитой крови, пожаров, уничтожения культурных ценностей и имущества. Неру видел, как по дорогам в различных направлениях двигались сотни тысяч беженцев. Женщины, дети, калеки, немощные старики и молодые мужчины, богатые и нищие, лошади, верблюды, слоны, домашний скот — все смешалось в одну обезумевшую от страха, окутанную облаками пыли массу. Голодные и полураздетые, погибая в пути, люди стремились к никому не понятной цели по другую сторону новой границы, где у них не было ни крова, ни пищи, ни занятия — ничего, кроме неизвестности и их «бога».
То была беспримерная в истории Индии миграция людей. По приблизительным подсчетам, более шести миллионов мусульман и четыре с половиной миллиона индусов переместились из одной страны в другую: из них погибло около семисот тысяч человек.
Читать дальше