— У вас, Гюстав, не только мозг, но и сердце талантливое, — вырвалось вдруг у Женнихен. — Я давно заметила, что способность чувствования бывает различной. Есть совсем тупые, равнодушные, этакие непроницаемые сердца.
— В броне улитки или черепахи, — рассмеялся Флуранс. — Однако меня вы переоцениваете. Я просто человек, не самый худший, вот и все.
Женнихен не возразила. Про себя она думала с нежностью и восхищением, что богато одаренный, обаятельный, гуманный и разносторонний Флуранс отдал свое пламенное сердце делу неимущих, обездоленных. Он спешил всегда в ту страну, где шло сражение между угнетенными и угнетателями. Буржуа его боялись и преследовали с тем большей яростью, что считали отступником.
Дружба Женнихен и Гюстава могла обернуться любовью, и каждый из них понимал это, но оба они были люди высокого чувства долга, самоконтроля, никогда не избиравшие легких дорог. Флуранс посвятил свою жизнь революционной борьбе, требующей полного самоотречения, и считал себя вечным странником.
«Как быть? — размышлял он. — Семья — обуза для бойца. Можно ли совместить служение идее и сердечную привязанность? Однако такая девушка, как Женни, не боится трудностей. Она будет со мной рядом повсюду. Но соглашусь ли я сам подвергать ее опасности?»
Флурапс вспоминал свою мать, живущую в постоянной тревоге за сына. И он откладывал тот решающий разговор, который мог принести с собой столько перемен в жизни. Женнихен также томилась сомнениями, но что-то в поведении Флуранса подсказывало ей, что она любима: так торопился он навстречу к ней, так красноречив, доверителен становился и радовался каждому ее слову.
Шли недели, тягостные думы точили душу девушки. Что, если ей никогда не придется встретить взаимное чувство, быть матерью? Женнихен горячо любила детей. Ей минуло уже двадцать шесть лот. Приближался тот унылый возраст, когда девушек обычно называют старыми девами. Мысли эти вызывали непереносимую тоску, досадные слезы подступали к горлу.
— Я найду цель в жизни, буду, как отец, работать для людей. Я нужна Мавру и всем моим друзьям, нужна, — твердила она себе.
Отношения Женнихен с Флурансом становились все более близкими. Оба они любили и оба оттягивали минуту признания, вбирая и излучая счастье, наслаждаясь тем, как много ого еще впереди. Но снова в Европе заполыхало варево войны и революции. Флуранс недолго задержался в Лондоне. Париж звал ого к себе. Он уехал, уверенный, что скоро увидит Женнихен, чтобы в будущем никогда с ней более не расставаться.
В апреле 1870 года, когда Флуранс часто посещал Модена-вилла, и одном из жалких окраинных домиков Лондона умирал Карл Шаппер. Исхудавший до последней степени, он был охвачен той лихорадочной энергией, которую несет в себе яд чахотки. Не имея сил двигаться, он без устали говорил. Мысли и воспоминания отгоняли страх быстро наступающей смерти, выказать который так но хотел этот искренний, некогда кипучий революционер. В последние годы жизни застарелая болезнь, лишения и тяготы долгого изгнания привели Шаппера к тому, что он вынужден был отойти от боевой работы. Физические силы Шаппера были сломлены. Но он являлся, однако, живой летописью нескольких десятилетий упорных пролетарских боев. После создания Международного Товарищества Рабочих, по предложению Маркса, его избрали членом Генерального совета.
Узнав о грозном обострении болезни старого бойца, Маркс навещал его, стараясь ободрить и обнадежить. В конце апреля здоровье Шаппера резко ухудшилось, и снова Маркс провел несколько часов у постели больного.
— Пятьдесят семь лет не так уж мало. Жаль мпе только, что я частенько дурил и путался без толку в жизни. Времени сколько попусту пропало, зря растратил силенки. Теперь кончено все, песенка моя спета, — говорил, задыхаясь и глухо кашляя, Шаппер.
— Не сдавайся, человече, мы еще поживем, — старался шутить Маркс.
— Зачем прятаться от неизбежного? Да и не удастся. Но я не из слабого десятка, будь уверен. На этих днях бессмертная смерть, как говорил Лукреций, похитит мою смертную жизнь. Я уже велел жене похоронить мои бренные останки в ближайшее воскресенье. Детям но придется тогда оставлять работу. Но женщины не философы по самой своей природе. Бедняжка ревет дни и ночи оттого, что я того и гляди скорчу последнюю гримасу. Не я первый и не я последний. Смерть не жизнь, только у нее пока существует подлинное равенство.
Когда в комнату входил остролицый высокий подросток, сын Шаппера, или его пожилая заплаканная жена, больной переходил на французский язык, которым владел в совершенстве.
Читать дальше
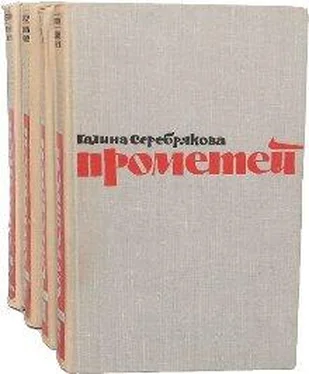

![Галина Гончарова - Дар жизни [litres]](/books/28118/galina-goncharova-dar-zhizni-litres-thumb.webp)








