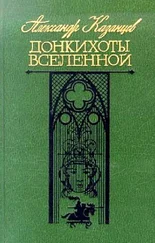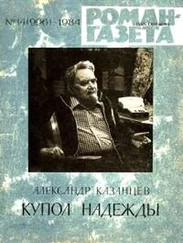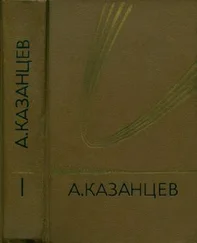Александр Казанцев - Любимая
Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Казанцев - Любимая» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Любимая
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Любимая: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Любимая»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Любимая — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Любимая», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И вот, перед смертью, Сократ обнадежился вновь увидеть Мирто, ее — не совсем ее! — чудесную улыбку, но Ксантиппа молчит, не отвечает на его вопросительный взгляд…
— Так это ты ее, замухрышку свою, а не меня любимой назвал? — произнесла наконец с горечью жена. — Ты ее ждал, а не нас. Я обещала привести, ты и ждал… Так?
Сократ замотал шишковатой плешивой головой: нет, Мирто он лишь однажды назвал любимой, в ту первую ночь, в Гуди, но, хоть и затуманилось его сознание парами самодельного вина, все же ощутил неловкость, будто назвал внучку Аристида чужим именем… Никогда больше не называл он ее так…
— Клянусь Палладой, Сократ, мне и теперь хочется плеснуть в твои бесстыжие глаза вот из этой ойнохои! — не унималась Ксантиппа, примеряясь к сосуду с водой. — До последнего дня ты надо мной измываешься, но я, не помня зла, непременно привела бы к тебе ее сегодня. Да, я нашла, где живет она: в Пирее, у вязальщика сетей. Но как раз сегодня утром она родила ему сына!.. Что, старый Сократ, радостно ли тебе слышать эту весть? Вот и не увидишь ты полюбовницы своей!.. — к старшему сыну на миг повернулась. — Не слушай меня, Лампрокл! Ишь уши развесил!.. — опять переметнула пылающий взгляд на мужа. — Придется тебе, Сократ, последний день с семьей провести, хоть и покривился ты, когда вместо нее меня увидел!..
Ксантиппа всю жизнь такая: разойдется, начнет кричать-частить, долго не уймется. Она и сегодня, чего доброго, плеснула бы, по своему обыкновению, воду в Сократа, забыв сгоряча обо всем (Такое раньше часто случалось, философ даже говаривал шутливо: «У Ксантиппы всегда сперва гром, потом дождь!»), да, она бы, может, и плеснула воду из ойнохои, ведь и руки уже освободила, усадила Менексена на отцовский топчан, но вдруг увидала, как расплылся в улыбке толстогубый рот Сократа.
— Ты рад этому, рад?!. - спросила она свистящим изумленным шепотом, ведь уверена была, что принесенная ею весть больно ранит Сократа.
Ранить и хотела. И потрясена была, когда это не удалось.
— …Клянусь Аполлоном, рад! — не покривя душой, ответил смертник.
«А почему не радоваться мне вести, что Мирто жива? — подумал он. — Хорошо, что нашла надежный приют. Что родила — замечательно: легче ей будет перенести мою смерть. И мне умирать куда легче будет, зная, что одной виной меньше… Пес меня знает, любил ли я все-таки ее. Верней всего, никогда не любил, иначе выл бы теперь от боли. Любил только ее улыбку, так много напоминающую мне… Выходит, любил я только Аспасию! Про это Ксантиппа не знает, а насчет Мирто успокоится пусть… Никому не ведома тайна Сократа! Ха-ха, никто не знает!..»
Видя радость в выпученных глазах мужа, Ксантиппа, изумившись сперва, потом и сама обрадовалась: неужто и впрямь ее непутевый супруг не любит вовсе замухрышку Мирто?! Пусть и жену не любит, лишь бы никого другого, не так обидно!..
Она провела ладонью по бугристому и морщинистому лбу Сократа. Он был горяч. И подумала Ксантиппа, что скоро, сегодня уже, станет холоден, будто камень ночью, этот лоб. И, разом сникнув, заголосила она, не утирая горючих слез, захлебываясь ими:
— Сократ мой родненький, на кого ж ты нас покидаешь?!. Вот и детки твои пришли проститься, скоро сиротками их назовут!.. Не будет у них больше отца, ой, не будет! Некому за них заступиться, некому доброму делу обучить!.. А обидеть их всяк теперь сможет — и словом недобрым и умыслом злым!.. Не будет нам жизни без тебя, Сократ родненький!..
Слезы жены были для узника мучительней ее гнева, ведь не знал он, как и чем успокаивать, какие слова найти, да и вряд ли их можно было сыскать. Лоб Сократа сморщился сильней обычного, крупный вздернутый нос тоже сморщился, будто он собирался чихнуть и никак не мог, и, видя, что Лампрокл и Софрониск уже молча размазывают слезы по щекам, испугался до холода внутри, что вот-вот сам разрыдается при всех.
Спасло его от такого исхода появление Никанора с двумя из одиннадцати афинских архонтов, пришедших, чтобы известить о времени сегодняшней казни Сократа и снять с него оковы. К первому узник отнесся совершенно равнодушно, по крайней мере смятения своего не выдал, а вот второе его нимало порадовало: сильно натерты были оковами лодыжки за месяц пребывания в тюрьме. Освободясь от них, Сократ даже в дионисийский пляс пустился, беспредельно изумив этим архонтов, но, увидав застывший ужас в глазах жены и старших сыновей, он вновь сел на топчан.
Никанор и архонты ушли, тихо стало в темнице, тишина эта была тягостной. Надо было что-то сказать. Непременно надо, чувствовал Сократ, надо утешить жену, дать советы и напутствия сыновьям, что-то значительное надо произнести — такое, чтоб запомнилось на всю жизнь, передавалось из уст в уста, служило примером непреклонности и высоты духа… Но ничего в голову не шло, ничего. И тишина была такая, что казалось Сократу — слышит он, как колотится крохотное сердечко у притаившейся в своей каменной норке мышки. А в голове его застучала непристойная по своей пустячной приземленности мысль: «Цикуту лучше пить стоя». Эти слова ему совсем недавно сказал Никанор, прибавляя, что в стоячем положении яд скорей и равномерней растечется по телу, верней подействует, куда меньше будет мук.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Любимая»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Любимая» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Любимая» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.